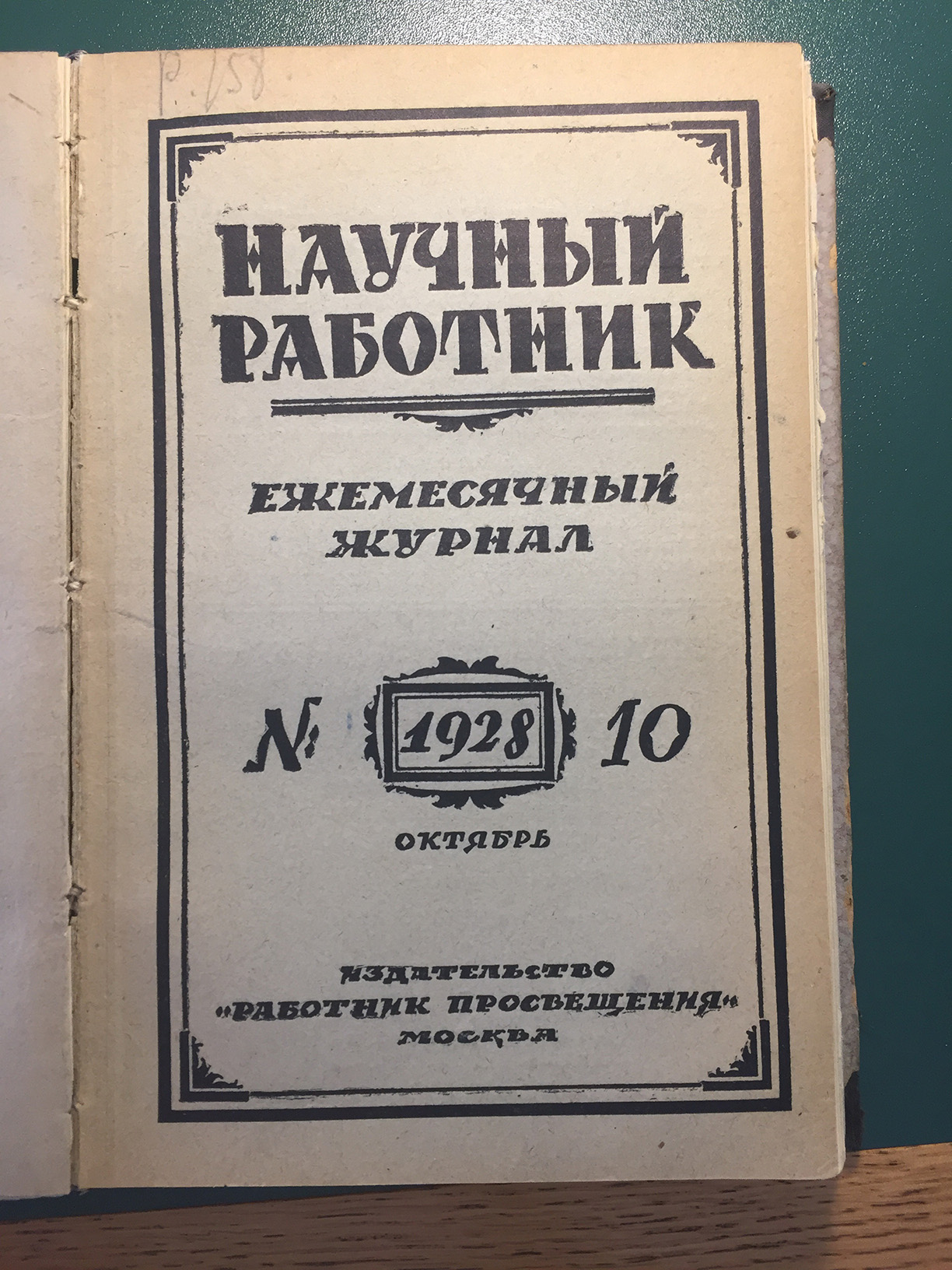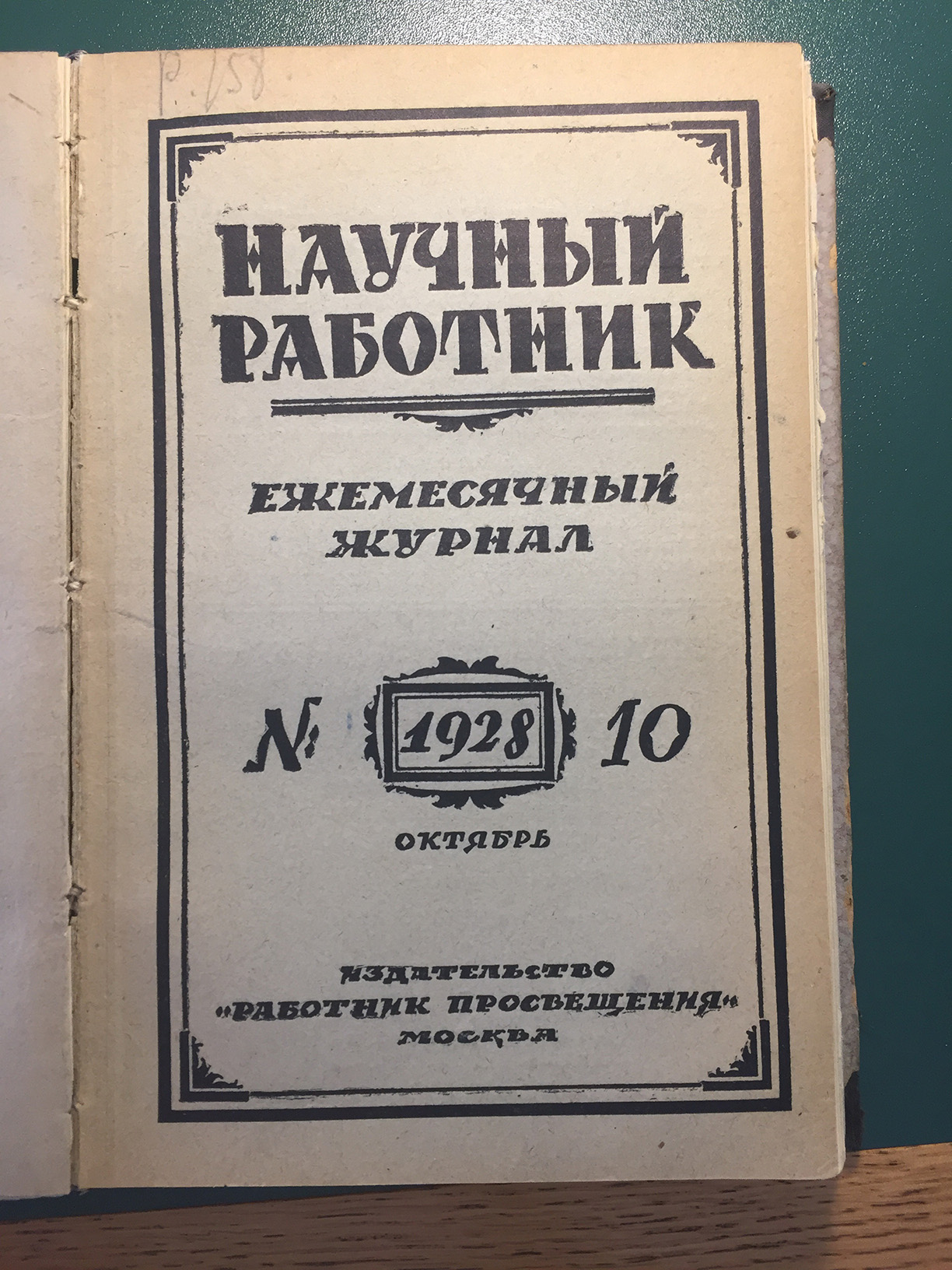
[3]
Когда лингвист пишет про историка в юбилейные, следовательно, отчетные по его деятельности дни, то в кругах со стабильным мышлением это — несоблюдение международно признанных правил научного приличия, и изыскивается более вразумительный источник такого нарушения академического кодекса. Можно подумать, что действуем по более легко обосновываемой житейской идеологии: долг платежом красен. Не так уж давно Михаил Николаевич отозвался положительно о моей сорокалетней деятельности в области языковедения; по этой логике мне, вероятно, надлежало бы ещё с большим под‘емом трактовать о деяниях Михаила Николаевича как историка в день его шестидесятилетия. Однако, разница есть. По той стороне, согласен признать, исключительно существенной, всякого лингвистического учения, которую М. Н. Покровский затронул в своей юбилейной характеристике нашей жизненной работы, он более чем кто-либо авторитетен; он, разумеется, более авторитетен, чем я, ибо он трактовал о социологической стороне яфетической теории, о марксистском по существу складе этого материалистического учения об языке, что выходило за пределы моих даже гаданий, когда оно строилось путем лишь синтезирующих наблюдений над лингвистическими фактами. По русской же истории, да еще по новым и новейшим ее эпохам, где не имею притязания быть и тенью специалиста, мне естественно оказаться в круге лишь непрошенных ценителей, и в результате попасть на зубок М. Н. Покровскому, стать об‘ектом остроумных замечаний, которые он имеет особый талант формулировать. Юбилейная речь, если она подлинно отчетная речь, таковой должна быть не только по приятным или солнечным сторонам творческих качеств чествуемого деятеля в жизненном их выявлении.
А вот другая разница, уже не идеологическая, а фактическая. М. Н. Покровский — ненавистник юбилейных чествований, да более, чем не любитель их и автор этих строк; об этом знаем не только мы, но знают отлично и наши ученики и ближайшие
[4]
друзья, и научные противники и враги (я не имею основания говорить даже формально о своих политических врагах, как беспартийный), однако; если это знание с исключительно чутким вниманием было выявлено в отношении ко мне всем мне родным научным Петербургом-Ленинградом и учениками, еще петербургскими и петроградскими и близ хладных финских скал, и в пламенной Колхиде, наравне с теми, кто имеют все основания быть нашими противниками, то, наоборот, друзья и ученики Михаила Николаевича не оказались столь деликатными в отношении к нему, еще менее (это также естественно) его враги, враги притом всяческие, а это ведь прежде всего мир историков, т.-е. подлинных русских историков, и излишне, конечно, протискиваться в их ряды для своих высказываний, когда дело идет, действительно, о полном юбилейно-отчетном суде над жертвой чествования с двусторонним обстрелом друзей и врагов.
Правда, давно покойный учитель наш, основатель русской школы востоковедения, ее общественный организатор в условиях, естественно, прежнего режима, академик, уходивший из Академии с мотивировкой, что Академия мешает ему заниматься наукой, барон Виктор Романович Розен, будучи арабистом и попутно знатоком персидского языка, нисколько не смущался выступать с авторитетным по творческим мыслям высказыванием в области грузинской и армянской филологии на таких не менее, чем юбилейные чествования, ответственных действах, как диспуты, в роли основного оппонента, да и в исследовательских предприятиях в роли инициатора по постановке громадной важности литературоведческого вопроса по памятнику грузинской письменности в порядке международного общения. И выступал он с полного одобрения весьма строгой коллегии востоковедов без всякой претензии знать или армянский, или грузинский языки в какой-либо мере, хотя бы в мере оригинальных, если не красивых алфавитов этих древнеписьменных кавказских языков, но не без обоснованной мотивировки подобных выступлений, плодотворнейших для исследовательской работы, для организации научных предприятий, и экспедиций. Обосновывалась мотивировка такого вмешательства тем, что ученый — не ученый, если у него нет метода, а метод — не метод, если он не общий у одного специалиста, хотя бы по гуманитарным наукам, с другим специалистом. И я бы поставил вопрос: у кого из историков более увязано методом со смежными специальностями научно-исследовательское творчество, чем у нашего юбиляра? У кого такое чуткое внимание к мало-мальски жизненному движению даже в такой всеми избегаемой, как никому ненужная сушь и буквоедство, дисциплине, как учение об языке?
Я не говорю, что таких историков у нас вовсе нет, но они составляют блестящее исключение: один, два и обчелся. И корень этого дела в методе, делающем лингвиста понятным историку, и историка лингвисту. Что же в этом нового? А то ново, что не только лингвист, открещивающийся от историзма, но и историки
[5]
изучали и изучают одинаково не историю в прагматическом ее восприятии, а метод исторического процесса, что не может осуществляться без, если не разрешения, то ярко положительного отношения вообще к генетическим вопросам. Этот общий метод, однако, увязывает у Михаила Николаевича не только одну область знания с другой областью знания, но и одну эпоху истории русского народа с другой эпохой, не исключая ни доистории, эпохи его сложения, ни истории почти нынешних дней. Но вот факт для иллюстрации. Когда я делился с Михаилом Николаевичем первыми своими попытками по истолкованию названия скифов (тогда я и не предполагал еще о факте яфетического состава самого их языка), то было неожиданно то напряженное внимание, с каким слушал историк политических судеб России новейших эпох то, что намечало пролить свет на неизвестное происхождение этнического образования, столь важного для выяснения того, как когда-то (так давно, что многим русским историкам невдомек, зачем это нужно знать) сложился русский народ, как сложилась русская речь. И этот интерес углублялся далеко за пределами не только петровской, екатерининской и дальнейших эпох, но за пределами русской истории. Помню, как поделившись первым общим положением палеонтологии речи, тем, что звуковая речь возникла, как то явствует из фактов языкового порядка по изобретении искусственного орудия производства (теперь мы говорим: по изобретению усовершенствованных видов орудий производства), — Михаил Николаевич меня прервал замечанием такого содержания (за буквальность передачи не стою): „Если, действительно есть возможность это доказать лингвистическим путем, то он имеет огромное значение; об этом говорилось в нашей (марксистской) литературе (Каутским), но без специально лингвистического обоснования".
Не скрою, я в тот момент не осознавал вовсе столь громадного значения чисто лингвистически вскрытого и наблюденного факта, и беседа с Михаилом Николаевичем послужила толчком к более внимательному отношению к факту и углублению положения о нем и его уточнению. И в то же время я не мог не быть поражен вниманием его, разумеется, без всякой справки у меня, к такой мелочи из общественной жизни современности моего родного уголка, одной из общественно-живых областей Грузии, как демонстрация в 1905 г., в Чохатауре, местечке верхней Грузии описанная мною в моих гурийских впечатлениях и наблюдениях. Михаил Николаевич, отдавая полную дань нашему и тогда беспартийно-об‘ективному показанию в описании состязания большевика с меньшевиком на народном собрании под открытым небом, не преминул оговориться, что изложение исходит из уст „буржуазного профессора", ну что же, это факт, как факт то, что не только в научно-исследовательских, но научно-организационных делах Михаил Николаевич не ставил грани иной, как об‘ективные интересы современного хозяйственно-культурного
[6]
строительства, между собой и между ученым иного общественного мышления.
Он живо откликнулся на мысль двух ленинградских, тогда петроградских, беспартийных профессоров дать опыт реорганизации гуманитарных факультетов нашего университета в один факультет общественных наук, и когда мы с быстротой срочной телеграммы набросали проект такого преобразования факультета, Михаил Николаевич в первый момент отнесся сочувственно и к мысли внесения, разумеется, на совершенно иных началах, чисто научных, антиконфессиональных, и религиозного или философско-религиозного отделения, и если часть эта вскоре отпала по настоянию самого Михаила Николаевича, то только потому, что сразу же поставлен был вопрос, и ныне безнадежный в смысле расчета на удовлетворительный ответ, вопрос о том, в чьих руках окажется дело осуществления такого в высшей степени ответственного научно-учебного предприятия, именно нерелигиозного, об‘ективно научного, я бы сказал теперь, материалистически поставленного изучения религий.
Большое счастье для науки и культуры, что в момент потрясения всех основ прежнего быта и громадного общественного сдвига, когда наши ряды, ряды ученых, редели от моральной „сломки" и смерти или от утека за границу, в распоряжении власти, выдвиженцев социальной революции, оказались в роли технических руководителей-строителей подлинные, по жажде исследовательского знания, ученые, ученые с большим охватом теоретических интересов, с широким горизонтом научного мировоззрения, И один из этих немногих, Михаил Николаевич, сам себя и своих сотрудников назвавший на первом совещании профессоров и ученых по университетскому вопросу летом 1918 г. „приказчиками пролетарской власти", явился не в меньшей степени и приказчиком и чутким слугой науки и всего того, что организационно и притом бесповоротно ее укрепляет в условиях современной общественности.
Естественно, Михаил Николаевич один из несменных участников нашей профессиональной организации, нашей Секции научных работников. Входя в состав ее Центрального совета, Михаил Николаевич по всем вопросам нашего научно-учебного и научно-исследовательского строительства выступал с той ясностью и откровенностью толкователем намечавшихся в Наркомпросе построений, которые можно понять лишь как выявление большой его веры в общественность научных работников, в необходимость нашего живого участия в направлении и судьбах нашей профессии, к нам ближе стоящей, чем к кому-либо, и нам лучше понятной, чем кому-либо, когда мы твердо стоим на коллективизме в наших профессиональных и научных работах, на органической увязке наших теоретических исканий и нашей высшей учебы с материальными и культурными запросами всех трудящихся нашего великого Союза. Примерами могут послужить выступления Миха-
[7]
ила Николаевича на пленуме Центрального совета Секции; напомню из последних случаев доклад его об организации аспирантского дела или весьма характерное выступление по докладу непременного секретаря о деятельности Академии наук СССР. Новое свидетельство, — и в моменты самых резких высказываний, — о вере в общественность научных работников и необходимости использования ее творческой силы.
Думаю, что я высказываю мнение всего состава пленума Центрального совета Секции научных работников, а вместе с тем и мое глубокое убеждение, что работа по укреплению нашей общественности, — будет ли это в профессиональных организациях, научно-исследовательских учреждениях и в высшей школе, — при установлении нового быта представляет не меньшую научную ценность, не меньшее научное достижение, чем печатное изложение решения любой научной проблемы.
-- Н. Я. Марр (Ленинград) : «М. Н. Покровский (К шестидесятилетию со дня рождения)», Научный работник, 1928, № 10, стр. 3-7.