-
- Centre de recherches en histoire et épistémologie comparée de la linguistique d'Europe centrale et orientale (CRECLECO) / Université de Lausanne // Научно-исследовательский центр по истории и сравнительной эпистемологии языкознания центральной и восточной Европы
-- С. П. ТОЛСТОВ : «Значение трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания для развития советской этнографии»*, Советская этнография, 1950-2, стр. 3-54.
- Centre de recherches en histoire et épistémologie comparée de la linguistique d'Europe centrale et orientale (CRECLECO) / Université de Lausanne // Научно-исследовательский центр по истории и сравнительной эпистемологии языкознания центральной и восточной Европы
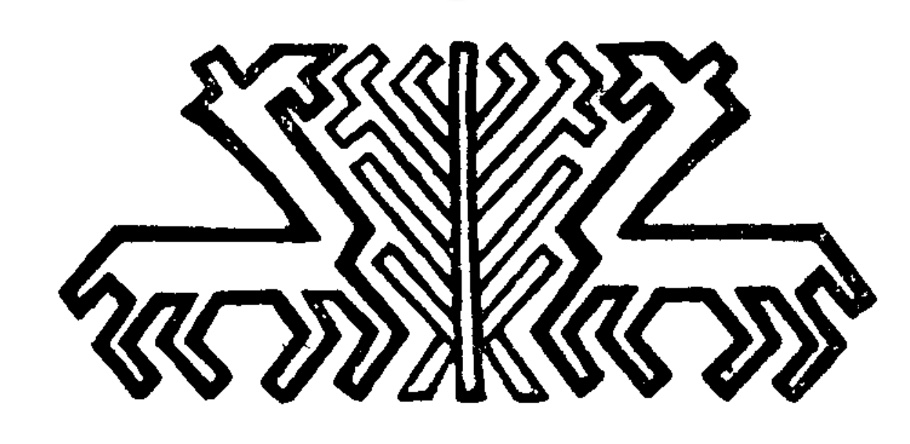
-
[3]
I
Значение статей товарища Сталина «Относительно марксизма в языкознании», «К некоторым вопросам языкознания», «Ответы товарищам», являющихся выдающимся вкладом в сокровищницу марксистско-ленинской теории, далеко выходит за пределы лингвистики. Эти статьи, как и все произведения товарища Сталина, представляют замечательный образец творческого развития марксизма-ленинизма. Они гениально намечают путь развития науки в нашей стране, со сталинской четкостью и глубиной вскрывая те недостатки организации научной работы, которые, к сожалению, свойственны в различной, конечно, степени, не одному языкознанию.
В частности, труды товарища Сталина по вопросам языкознания ставят перед нашими историками, в особенности перед теми из них, кто работает над сложным и трудным комплексом вопросов происхождения народов и их групп, вопросов, неотделимых от истории языков этих народов и групп, ряд новых кардинальной важности проблем.
Надо признаться, что я, так же как и большинство занимавшихся этими вопросами историков, археологов, этнографов и антропологов, сочувственно относился к теории акад. Марра. Мы были увлечены декларированной Марром схемой «перевернутой на основание пирамиды», его теорией развития языков «от множества к единству», мы поверили на слово Марру и его ученикам, что «теория скрещения языков» Марра есть якобы развитие гениального учения Сталина о происхождении наций «из разных рас и племен».
За шумом и треском пропаганды марристов, за резкой по форме «критикой» расизма, наложившего — это бесспорно — сильный отпечаток на языковедную работу за рубежом, за критикой «праязыковой теории», давно уже вступившей — это также бесспорно — в резкое противоречие с объективными историко-археологическими и этнографическими фактами, мы не сумели рассмотреть псевдомарксистской, вульгаризаторской сущности теории Марра; мы не рассмотрели полного отсутствия объективных языковых данных, которыми она могла бы быть подкреплена; не сумели рассмотреть того, что критика Марром расизма и теории «праязыка» велась им с неправильных, немарксистских позиций. Мы видели, конечно, вопиющие прорывы в работах Марра, но относили это за счет «недоработанности» его теории. Мы видели, конечно, неправильность огульной расправы Марра и его учеников над сравнительно-историческим методом, однако расценивали это лишь как перегиб, «болезнь роста». Мы, конечно, пользовались выводами лингвистов, работавших
[4]
сравнительно-историческим методом, в наших конкретно-исторических исследованиях, но пытались «увязать» это с лингвистическими построениями Марра. Мы видели, конечно, вопиющую бездеятельность во всем, что не касалось занятия «командных высот», и полную научную бесплодность учеников Марра, заведших языкознание в дебри безысходной схоластики и действительного формализма, но относили это за счет того, что ученики-де односторонне, неправильно и некритически развивают идеи своего учителя.
Открытая «Правдой» дискуссия с полной убедительностью вскрыла ту бесконечную путаницу, которая, будучи создана Марром и сторонниками «нового учения о языке», царила в языкознании. Но только товарищ Сталин внес в эту дискуссию подлинно марксистско-ленинскую, сталинскую четкость и ясность, поставив тяжелой болезни, переживаемой нашим языкознанием, точный и бесспорный диагноз, и наметил путь лечения этой болезни.
Никто из выступавших до товарища Сталина участников дискуссии не сумел рассмотреть основной порок теории Марра. Акад. В. В. Виноградов в своем отклике на статью товарища Сталина справедливо отмечает, что признание положения Марра о языке, как надстройке, было характерно для большинства наших лингвистов, не только сторонников, но и противников Марра[1]. В частности, например, проф. А. С. Чикобава, которому принадлежит несомненная заслуга постановки со всей резкостью вопроса о многих вопиющих провалах Марра, в этом вопросе также допустил ошибку, оценивая, хотя и с оговорками, порочное учение Марра о языке, как надстройке над базисом, как единственный положительный вклад Марра в марксистско-ленинское языкознание[2]. Эту же ошибку в оценке положения Марра о языке как надстройке повторили участники дискуссии Г. А. Капанцян[3] и С. Д. Никифоров[4]. Между тем, как подчеркивает товарищ Сталин, в этом положении Марра — главный порок его теории. «Н. Я. Марр" внес в языкознание неправильную, немарксистскую формулу насчет языка, как надстройки, и запутал себя, запутал языкознание. Невозможно на базе неправильной формулы развивать советское языкознание»,— пишет товарищ Сталин.[5]
Из этой неправильной формулы Марра логически неизбежно вытекает и вторая неправильная его формула — о классовости языка. Из того же вытекает и так называемая «теория стадиальности», теория взрывов в историческом развитии языка, подвергнутая И. В. Сталиным острой и глубокой критике.
Сейчас, благодаря работам товарища Сталина, ясно, что теория Марра в целом, базировавшаяся на этой неправильной формуле, не верна в своей основе, является немарксистской, упрощенческой, вульгаризаторской теорией. «Н. Я. Марр действительно хотел быть и старался быть марксистом, но он не сумел стать марксистом. Он был всего лишь упростителем и вульгаризатором марксизма, вроде «пролеткультовцев) или «рапповцев»[6].
Созданный Марром и его учениками недопустимый аракчеевски! режим в языкознании, установление монополии вульгаризаторской «нового учения о языке» во много раз усугубили последствия ошибок
[5]
и заблуждений Марра, надолго лишив языковедов возможности развивать языкознание по подлинно марксистскому пути.
Сейчас ясно, что наши попытки привлечь к разрешению вопросов происхождения народов порочные положения теории Марра являются нашей ошибкой, исправление которой — очередная задача советских историков всех специальностей, работающих в этой области.
Было бы неправильно, конечно, на этом основании зачеркивать все наши работы, посвященные проблемам происхождения народов. Это было бы грубой ошибкой. В нашей конкретно-исторической работе мы исходили из объективных фактов, из исторических, археологических, этнографических и антропологических данных, опираясь при освещении их на методологию марксизма-ленинизма, на сталинскую теорию нации. Но поскольку мы при освещении лингвистических вопросов привлекали выводы теории Марра, мы не усиливали, а ослабляли аргументацию своих, добытых на другом материале, выводов, а в ряде вопросов приходили к ошибочным заключениям. Нельзя разрешать вопросы этногенеза, абстрагируясь от истории языка. Тот факт, что языковый материал привлекался нами главным образом в той форме, в которой его подавал Марр, является слабым местом наших этногенетических построений.
Вместе с тем, неосновательно подчеркивая значение языковедной теории Марра в разработке марксистско-ленинской теории этногенеза, мы тем самым способствовали пропаганде так называемого «нового учения о языке».
Справедливость требует отметить, что ряд .положений теории Марра, имеющих отношение к этнографии и археологии, не встретил поддержки в работах советских этнографов и археологов, если не считать небольшого числа работ, вышедших в середине 30-х годов и не оставивших серьезного следа в нашей археологической и этнографической литературе. Сюда относятся: пресловутая «труд-магическая» теория Марра, рассуждения о классах в доклассовом обществе, более чем своеобразная трактовка Марром тотемизма, конструирование «тотемической» и «космической» стадий в истории первобытного мышления. Дольше других держалась получившая распространение в советской археолого-этнографической литературе, в значительной мере благодаря поддержке Марра и в интерпретации Марра и Мещанинова, идеалистическая теория Леви-Брюля о первобытном мышлении. Еще совсем недавно эта теория пропагандировалась на страницах советского учебника истории первобытного общества, изданного в 1947 г. В. И. Равдоникасом[7], вообще больше других представителей археологии и первобытной истории внесшим марристской путаницы в советскую историческую науку,— взять хотя бы его вульгаризаторские рассуждения о «стадиальных превращениях» киммерийцев в скифов, скифов в сарматов, сарматов в готов в «Готском сборнике»[8].
К чести нашего научного коллектива и нашего журнала, против этих идеалистических рецидивов марризма в первобытной истории мы выступили весьма дружно. На наших научных сессиях и на страницах журнала подверглись резкой критике и книга Равдоникаса, и «магические» теории Рифтина, Гринковой и др., и пропаганда взглядов Леви-Брюля и т, п.[9] Но, за редкими исключениями,— я могу назвать только одно выступление С. А. Токарева [10],— никто среди нас не направил огня
[6]
против главного источника всех этих идеалистических домыслов, проникших в советскую историко-этнографическую литературу,— против идеалистических построений самого Н. Я. Марра. Марра наша критика щадила, а игнорирование основного источника всех этих ошибок привело к неполноте критики, и мы должны прямо сказать, что перед нами сейчас стоит задача дальнейшего продолжения критики всех этих идеалистических извращений в области этнографии, связанных с Марром и его школой.
В нашей как этнографической, так и историко-археологической литературе, посвященной первобытной истории и проблемам этногенеза, прочно удержались до недавних дней три порочных положения Марра о «глоттогоническом процессе»: положение о существовании в древнейшей истории языков стадии «ручной» или «кинетической» речи, положение о ведущей роли в «глоттогоническом процессе» скрещения языков и положение о стадиальном развитии языков с переходом из одной стадии в другую путем взрыва, путем быстрой, коренной перестройки всего строя языка, причем инструментом этой перестройки оказывалось то же скрещение.
Мы не сумели разобраться в качественном своеобразии языка, как общественного явления. Археологически устанавливаемые бесспорные факты резких изменений в материальной культуре народов казались нам достаточным основанием для того, чтобы принять в освещении истории языка этих народов точку зрения Марра.
К нам поэтому с полным основанием могут быть отнесены слова товарища Сталина: «Ошибка наших товарищей состоит здесь в том, что они не видят разницы между культурой и языком и не понимают, что культура по своему содержанию меняется с каждым новым периодом развития общества, тогда как язык остается в основном тем же языком в течение нескольких периодов, одинаково обслуживая как новую культуру, так и старую»[11].
Сейчас перед нами стоит задача упорной работы над изучением выдающихся произведений товарища Сталина, посвященных вопросам языкознания. Как и все работы великого вождя народов, великого корифея марксистско-ленинской науки, эти произведения вооружают нас на преодоление ошибок и недостатков нашей работы, намечая единственно правильный путь дальнейшего развития не только языкознания, но и связанных с ним разделов исторической науки. Больше того, целый ряд разделов работ товарища Сталина заставляет и философов, и историков, и этнографов пересмотреть многие существенные вопросы своей науки, на первый взгляд непосредственно и не связанные с вопросами языковедения. Работы товарища Сталина о языкознании творчески развивают такой кардинальный вопрос марксистско-ленинской теории, как учение о базисе и надстройке. Труды товарища Сталина по языкознанию поднимают на новую ступень сталинское учение о нации и национальной культуре, имеющее первостепенное значение для всех гуманитарных наук, а для этнографии в частности и в особенности. Они по-новому ставят такую, имеющую выдающееся значение для развития марксистско-ленинской диалектики проблему, как проблема путей перехода от старого качества к новому. Впервые в марксистско-ленинской литературе со всей четкостью товарищем Сталиным поставлен здесь вопрос о том, что «закон перехода от старого качества к новому путем взрыва неприменим не только к истории развития языка, — он не всегда применим также и к другим общественным явлениям базисного или надстроечного порядка».[12][7]
II
Труды товарища Сталина по вопросам языкознания по своему значению выходят далеко за пределы критики порочной теории Марра. Эти труды впервые в марксистской науке создают цельную марксистско- ленинскую концепцию теории языка.
Практически совершенно невозможно в рамках (пусть даже и не стесненного регламентом) доклада подробно и развернуто остановиться на всех сторонах трудов товарища Сталина о марксизме и языкознании, имеющих выдающееся значение для развития этнографической науки. Это дело дальнейшей нашей работы. Остановимся на самом существенном.
Товарищ Сталин впервые в марксистской литературе дает с предельной четкостью и ясностью марксистско-ленинское определение природы и сущности языка. Конечно, элементы этого определения мы найдем и в работах Маркса и Энгельса, особенно в работах Ленина и в более ранних работах самого товарища Сталина, но с такой полнотой это определение впервые сформулировано сейчас.
«Язык, — говорит товарищ Сталин, — относится к числу общественных явлений, действующих за все время существования общества. Он рождается и развивается с рождением и развитием общества. Он умирает вместе со смертью общества. Вне общества нет языка. Поэтому язык и законы его развития можно понять лишь в том случае, если он изучается в неразрывной связи с историей общества, с историей народа, которому принадлежит изучаемый язык и который является творцом и носителем этого языка».[13]
Это положение товарища Сталина обязывает нас — историков, этнографов, археологов — принять самое активное участие в той большой работе, которая сейчас выпадает на долю лингвистов, ибо, как ясно из этого положения, лингвист не может правильно — марксистско-ленински — разрешить стоящие перед ним задачи, если он не будет изучать историю языка в неразрывной связи с историей народов.
«Язык,— говорит товарищ Сталин,— есть средство, орудие, при помощи которого люди общаются друг с другом, обмениваются мыслями и добиваются взаимного понимания. Будучи непосредственно связан с мышлением, язык регистрирует и закрепляет в словах и в соединении слов в предложениях результаты работы мышления, успехи познавательной работы человека и, таким образом, делает возможным обмен мыслями в человеческом обществе».[14]
И далее: «...без языка, понятного для общества и общего для его членов, общество прекращает производство, распадается и перестает существовать, как общество. В этом смысле язык, будучи орудием общения, является вместе с тем орудием борьбы и развития общества».
Это положение товарища Сталина заставляет совершенно по-новому подойти к решающему вопросу истории языка, и, в частности, именно это положение со всей ясностью показывает несостоятельность марровской теории о языке, как надстройке, марровской теории о стадиальном развитии языка, развитии его путем взрывов.
Товарищ Сталин говорит: «Язык порожден не тем или иным базисом, старым или новым базисом, внутри данного общества, а всем ходом истории общества и истории базисов в течение веков. Он создан не одним каким-нибудь классом, а всем обществом, всеми классами общества, усилиями сотен поколений. Он создан для удовлетворения нужд не одного какого-либо класса, а всего общества, всех классов общества. Именно поэтому он создан, как единый для общества и общий
[8]
для всех членов общества общенародный язык»[15]. Отсюда вытекает одно из важнейших положений учения Сталина о языке — учение об общенародном языке, учение о различии языка, диалекта и жаргонов, — понятия, постоянно смешивавшиеся не только Марром и марристами, но практически всеми как буржуазными, так и советскими языковедами, не видевшими принципиального различия между этими категориями и постоянно употреблявшими их альтернативно. В индоведческой литературе мы постоянно можем столкнуться с рассуждениями о «кастовых языках», когда на деле речь идет о жаргонах отдельных каст. Нужно ли говорить, что эта «нечеткость терминологии» на руку только тем, которые заинтересованы в увековечении кастового строя и раздувании языковых различий в Индии, якобы делающих невозможным национальное самоопределение индийских народов, — т. е. английским империалистам? В дореволюционной тюркологической литературе отдельные, вполне самостоятельные тюркские языки (такие как татарский, башкирский, казахский, туркменский, азербайджански, турецкий и другие) постоянно именуются «диалектами», вся группа или семья тюркских языков рассматривается, соответственно, как единый «тюркский язык». Нужно ли говорить о том, что эта «нечеткость терминологии» на руку только идеологам пантюркизма?
Сталинское учение об общенародном языке и зависимых от него и подчиненных ему диалектах и жаргонах [16] ставит как перед языковедами, так и перед этнографами ряд первостепенной важности исследовательских проблем, заставляя пересмотреть целый ряд прочно укоренившихся предрассудков и ошибочных взглядов.
Товарищ Сталин подчеркивает принципиальное различие между языком и надстройкой.
«Надстройка, — пишет товарищ Сталин, — есть продукт одной эпохи в течение которой живет и действует данный экономический базис. Поэтому надстройка живет недолго, она ликвидируется и исчезает с ликвидацией и исчезновением данного базиса.
Язык же, наоборот, является продуктом целого ряда эпох, на протяжении которых он оформляется, обогащается, развивается, шлифуется. Поэтому язык живет несравненно дольше, чем любой базис и любая надстройка. Этим собственно и объясняется, что рождение и ликвидации не только одного базиса и его надстройки, но и нескольких базисов и соответствующих им надстроек — не ведет в истории к ликвидации данного языка, к ликвидации его структуры и к рождению нового язык; с новым словарным фондом и новым грамматическим строем»[17].
Товарищ Сталин ярко и убедительно показывает на ряде конкретных исторических примеров несостоятельность попытки нарисовать историк развития языка как историю взрывов. Товарищ Сталин пишет: «Какая польза для революции от такого переворота в языке? История вообще не делает чего-либо существенного без особой на то необходимости. Спрашивается, какая необходимость в таком языковом перевороте если доказано, что существующий язык с его структурой в основном вполне пригоден для удовлетворения нужд нового строя? Уничтожить старую надстройку и заменить ее новой можно и нужно в течение нескольких лет, чтобы дать простор развитию производительных сил общества, но как уничтожить существующий язык и построить вместе него новый язык в течение нескольких лет, не внося анархию в общественную жизнь, не создавая угрозы распада общества?» [18]
И далее товарищ Сталин рисует пути развития и изменения языка,
[9]
показывая ярко и убедительно, как Марр фактически встает на путь схематизации и вульгаризации марксизма, пытаясь переносить, вопреки фактам, на развитие языка совершенно не свойственные ему закономерности, характерные для развития надстройки.
«В отличие от надстройки, — пишет товарищ Сталин, — которая связана с производством не прямо, а через посредство экономики, язык непосредственно связан с производственной деятельностью человека так же, как и со всякой иной деятельностью во всех без исключения сферах его работы. Поэтому словарный состав языка, как наиболее чувствительный к изменениям, находится в состоянии почти непрерывного изменения, при этом языку, в отличие от надстройки, не приходится дожидаться ликвидации базиса, он вносит изменения в свой словарный состав до ликвидации базиса и безотносительно к состоянию базиса.
Однако словарный состав языка изменяется не как надстройка, не путем отмены старого и постройки нового, а путем пополнения существующего словаря новыми словами, возникшими в связи с изменениями социального строя, с развитием производства, с развитием культуры, науки и т. п. При этом, несмотря на то, что из словарного состава языка выпадает обычно некоторое количество устаревших слов, к нему прибавляется гораздо большее количество новых слов. Что же касается основного словарного фонда, то он сохраняется во всем основном и используется, как основа словарного состава языка».[19]
Учение товарища Сталина о словарном составе языка и об основном словарном фонде представляет собой крупнейший вклад в лингвистическую науку. Столь же значительный вклад представляет собой учение товарища Сталина о грамматическом строе. «Благодаря грамматике, — пишет товарищ Сталин, — язык получает возможность облечь человеческие мысли в материальную языковую оболочку», «Грамматика, — указывает товарищ Сталин, — есть результат длительной, абстрагирующей работы человеческого мышления, показатель громадных успехов мышления».[20]
Указывая на то, что основной словарный фонд сохраняется и является основой словарного состава языка, товарищ Сталин пишет далее:
«Это и понятно. Нет никакой необходимости уничтожать основной словарный фонд, если он может быть с успехом использован в течение ряда исторических периодов, не говоря уже о том, что уничтожение основного словарного фонда, накопленного в течение веков, при невозможности создать новый основной словарный фонд в течение короткого срока, привело бы к параличу языка, к полному расстройству дела общения людей между собой.
Грамматический строй языка изменяется еще более медленно, чем его основной словарный фонд. Выработанный в течение эпох и вошедший в плоть и кровь языка, грамматический строй изменяется еще медленнее, чем основной словарный фонд. Он, конечно, претерпевает с течением времени изменения, он совершенствуется, улучшает и уточняет свои правила, обогащается новыми правилами, но основы грамматического строя сохраняются в течение очень долгого времени, так как они, как показывает история, могут с успехом обслуживать общество в течение ряда эпох.
Таким образом, грамматический строй языка и его основной словарный фонд составляют основу языка, сущность его специфики».[21]
Так товарищ Сталин определяет специфику языка. Товарищ Сталин подчеркивает чрезвычайную устойчивость и колоссальную сопротивляемость языка, иллюстрируя это рядом конкретных исторических приме-
[10]
ров. Из этих положений с полной ясностью вытекает антинаучность претензий Марра и его учеников говорить о молниеносной перестройке основного словарного фонда и грамматического строя языков.
«Язык, — говорит товарищ Сталин, — его структуру нельзя рассматривать как продукт одной какой-либо эпохи. Структура языка, его грамматический строй и основной словарный фонд есть продукт ряда эпох»[22].
Товарищ Сталин не отрицает, конечно, качественных изменений в языке в процессе его исторического развития, но он подчеркивает невозможность революции в языке, вздорность и претенциозность попыток рисовать историю таких революций.
«Марксизм считает, что переход языка от старого качества к новому происходит не путем взрыва, не путем уничтожения существующего языка и создания нового, а путем постепенного накопления элементов нового качества, следовательно, путем постепенного отмирания элементов старого качества».[23]
И здесь товарищ Сталин, делая неизбежный вывод из развернутого им марксистского учения о языке, подходит к вопросу о том, что наложило свой отпечаток на нашу этнографическую, археологическую, историческую литературу, к вопросу о скрещении языков, как якобы основной движущей силе их развития. Товарищ Сталин пишет:
«Скрещивание языков нельзя рассматривать, как единичный акт решающего удара, дающий свои результаты в течение нескольких лет. Скрещивание языков есть длительный процесс, продолжающийся сотни лет. Поэтому ни о каких взрывах не может быть здесь речи».[24]
И далее товарищ Сталин подчеркивает, что самый процесс скрещивания имеет совершенно иной характер, чем тот, который пытался приписать ему Марр. Безответственно, не подкрепляя никакими сколько-нибудь доказательными фактами, Марр выдвигал идею о том, что скрещивание языков дает новый, третий язык, отличный от обоих исходных. Товарищ Сталин по этому поводу пишет:
«На самом деле при скрещивании один из языков обычно выходит победителем, сохраняет свой грамматический строй, сохраняет свой основной словарный фонд и продолжает развиваться по внутренним законам своего развития, а другой язык теряет постепенно свое качество и постепенно отмирает»[25].
Для нас ясно, что это положение не только подтверждается всей совокупностью исторически наблюдаемых нами фактов, но и логически, с железной необходимостью, вытекает из сталинского учения о языке. Ибо если язык есть основное средство общения людей, если жизнедеятельность общества зависит от существования языка, то как может происходить образование нового языка в процессе скрещения языков без паралича жизнедеятельности общества? В условиях классового общества, в условиях борьбы языков за господство в процессе скрещения неизбежно побеждает один из языков, который становится основой дальнейшего развития.
И поэтому товарищ Сталин глубоко прав, когда говорит, что теория скрещения, без сомнения, не может дать чего-либо серьезного советскому языкознанию:
«Если верно, что главной задачей языкознания является изучение внутренних законов развития языка, то нужно признать, что теория
[11]
скрещивания не только не решает этой задачи, но даже не ставит ее— она просто не замечает, или не понимает ее».[26]
Марксистско-ленинская периодизация истории языка, разработанная товарищем Сталиным, находит свое завершение в ответе товарища Сталина на второй вопрос группы молодых языковедов. Товарищ Сталин пишет: «Не трудно понять, что в обществе, где нет классов, не может быть и речи о классовом языке. Первобытно-общинный родовой строй не знал классов, следовательно, не могло быть там и классового языка,— язык был там общий, единый для всего коллектива».
И дальше: «Что касается дальнейшего развития от языков родовых к языкам племенным, от языков племенных к языкам народностей и от языков народностей к языкам национальным,— то везде на всех этапах развития язык, как средство общения людей в обществе, был общим и единым для общества, равно обслуживающим членов общества независимо от социального положения».[27]
Исходя из этих положений товарища Сталина, мы должны сейчас пересмотреть ряд вопросов, связанных не только с нашими этногенетическими работами, но и с некоторыми прочно укоренившимися среди наших этнографов представлениями по истории первобытного общества, в частности — с самой периодизацией первобытной истории.III
Для этнографической науки имеет первостепенное значение вопрос, значение которого подчеркнуто в работах товарища Сталина о языкознании, вопрос о происхождении языковых групп (семей). Марр и его ученики, как известно, завели разработку этой проблемы, как и все языкознание, в тупик.
В процессе лингвистической дискуссии среди языковедов раздавались голоса, призывающие к возвращению к «праязыковой теории», которая, якобы, одна способна вывести разработку этой проблемы из созданного Марром тупика.
Я говорил уже в начале доклада о том, что «праязыковая теория» давно уже вступила в резкое противоречие с фактами археологии, истории и этнографии. Товарищ Сталин, говоря о сравнительно-историческом методе, пишет: «...сравнительно-исторический метод, несмотря на его серьезные недостатки, все же лучше, чем действительно идеалистический четырехэлементный анализ Н. Я. Марра, ибо первый толкает к работе, к изучению языков, а второй толкает лишь к тому, чтобы лежать на печке и гадать на кофейной гуще вокруг пресловутых четырех элементов.
Н. Я. Марр высокомерно третирует всякую попытку изучения групп (семей) языков, как проявление теории «праязыка». А между тем нельзя отрицать, что языковое родство, например, таких наций, как славянские, не подлежит сомнению, что изучение языкового родства этих наций могло бы принести языкознанию большую пользу в деле изучения законов развития языка. Я уже не говорю, что теория «праязыка» не имеет к этому делу никакого отношения»[28].
Таким образом, товарищ Сталин проводит резкую грань между изучением групп (семей) языков при помощи сравнительно-исторического метода, с одной стороны, и «праязыковой теорией» — с другой. Между тем отождествление того и другого было характерно не только для Марра, но и для многих его противников — разница лишь в отношении к этим явлениям. Марр и марристы заявляли, что сравнительный метод
[12]
неотделим от праязыковой теории и посему подлежит изничтожению. Сторонники праязыковой теории заявляли, что эта теория является неизбежным выводом, к которому приводит сравнительный метод, а по сему — без праязыковой теории не может быть научного языкознания. Марристы, конечно, нанесли языкознанию особенно серьезный ущерб, ибо вместе с «праязыковой теорией» они лишили языкознание единственного, хотя и несовершенного орудия исследования родственных языков, подменяя его гаданием «на кофейной гуще вокруг пресловутых четырех элементов». Однако было бы величайшей ошибкой, законно восстанавливая в правах применение сравнительно-исторического метода связывать это с восстановлением в правах «праязыковой теории».
Сравнительно-исторический метод исследования был крупным научным открытием языковедов первой половины XIX в. При помощи этого метода была установлена система закономерных звуковых, словарных и грамматических соответствий в пределах индоевропейской семьи языков. Впоследствии этот метод был распространен на изучение других не индоевропейских языковых групп. Языковые соответствия, разработанные и доведенные до технической изощренности последующими поколениями лингвистов сравнительно-исторической школы, явились крупным завоеванием языковедной науки. В сравнительно-историческом методе языковедение впервые получило технический метод научного сопоставления лингвистических фактов. В этой связи нельзя не согласиться со словами Энгельса в «Анти-Дюринге», где он высоко оценивает работы Боппа и Гримма.
Но этот метод, являясь крупным лингвистическим открытием, является вместе с тем лишь техническим методом сопоставления. Это лишь совокупность эмпирических наблюдений, до сих пор теоретически удовлетворительно не осмысленных. С фактами, наблюденными и великолепно систематизированными представителями сравнительно-исторического языкознания, должен считаться всякий, полагающий себя марксистом. Всякая попытка исторического истолкования тех или иных языковых явлений должна неизбежно отправляться от этих фактов.
Но это отнюдь не значит, что фактом являются теории, или, точнее, гипотезы, выдвинутые представителями сравнительно-исторического метода. К таким гипотезам относится так называемая «праязыковая теория», согласно которой родственные языки всегда являются результатом различных направлений развития одного языка.
Посмотрим, как, основываясь на «праязыковой теории», рисуют современные ее представители конкретную историю индоевропейских языков, в отношении которых эта теория получила наибольшее развитие.
Некогда существовал индоевропейский «праязык», на котором говорил «пранарод», обитавший на ограниченной территории своей «прародины». Договориться о месте этой «прародины» сторонники «праязыковой теории» за почти полтораста лет ее существования так и не смогли[29]. Примем, однако, за доказанную последнюю по времени гипо-
[13]
тезу Т. Милевского (1948 г.), помещающего эту «прародину» в Тюрингии, западной Саксонии и смежных районах, относя время жизни «пра- индоевропейцев» на этой «прародине» к концу III тысячелетия до нашей эры. Можно выбрать и любую другую гипотезу, существо дела от этого не изменится.
Что же происходит дальше? Предоставим слово самому Милевскому.
«Будучи воинственными и агрессивными, эти индоевропейские племена быстро расширили эту область, и это повело к дезинтеграции первоначального индоевропейского единства... Дальнейшая дифференциация индоевропейской лингвистической области была связана с необыкновенной экспансией этих языков, которые распространились в четырех направлениях: на восток в Азию (тохарская и индоиранская группа), на юг в Грецию и Малую Азию (луви-хетты, греки и фрако-армяне), на запад на Аппенинский и Пиренейский полуострова и Британские острова (итало-кельтская и иллиро-венетская группы) и, наконец, на север в Скандинавию (тевтонская группа) и Восточную Европу (балто-славянская группа)».[30]
Карты атласа Милевского ярко иллюстрируют эту «необыкновенную» картину, вся аргументация которой сводится исключительно к данным языкознания, истолкованным с позиций «праязыковой теории», и находится в решительном противоречии с археологическими и антропологическими фактами. Мы видим на этих картах, как около 2000 г. до н. э. «тевтоны» заселяют Ютландию и Южную Скандинавию; балто-славяне — бассейн Одера и Вислы; кельты — междуречье Рейна и Эльбы; иллиро-венеты — верховья Дуная; греко-македоняне продвигаются на Средний Дунай; италийцы — в бассейн По; хетты и лувийцы занимают районы центральной и южной Малой Азии; индоиранцы — Северное Причерноморье, а тохары оказываются где-то в районе Сталинграда. В 900 г. до н. э. (какова точность!) область «индоевропейцев в целом» и каждой отдельной группы снова «необычайно» разрастается. Италийцы занимают уже всю Среднюю Италию, фракийцы и иллирийцы — весь бассейн Дуная, Днестра и Днепра, индоиранцы —все огромное пространство от Дона до Индии и т. д.
Карты 900-х и 600-х гг. до н. э. рисуют дальнейшее расширение территории кельтов, занимающих Британские острова и Францию, фрако- армян, занимающих всю Малую Азию. Около начала нашей эры начинается экспансия до того «сидевших смирно» германцев и балто-славян, занимающих: первые — всю Центральную, вторые,— всю Восточную Европу. И дальше экспансия продолжается вплоть до периода великих географических открытий и до заселения большей части мира «индоевропейскими» колонизаторами уже капиталистической эпохи.
Говоря кратко, картина сводится к тому, что на протяжении четырех с лишком тысяч лет одна лингвистическая общность, один народ или группа родственных племен, живших в пределах небольшой территории, идет по пути непрерывного, «необычайного» даже для авторов такого рода схем, расширения своей колонизационной области. Расширяется сперва территория «индоевропейцев». Затем та же сила экспансии действует и в «дочерних группах», на которые разбились «индоевропейцы»
[14]
Действует она и в бронзовом и в раннежелезном веке, действует и в первобытную, и в античную, и в феодальную, и в капиталистическую эпохи.
При этом расширение происходит отнюдь не на пустом месте, «Воинственные и агрессивные индоевропейцы» вытесняют и ассимилируют многочисленные «неиндоевропейские» племена и народы, на протяжении всех четырех тысячелетий неизменно и неуклонно делающиеся жертвой индоевропейской экспансии.
Спрашивается: как назвать ту магическую силу, то «неудержимое» или «непреодолимое» или «таинственное побуждение», о котором говорят Я. Гримм, М. Мюллер и К. Кун, которое привело к таким великолепным для «индоевропейцев» и печальным для «неиндоевропейцев» последствиям?
«Праязыковая теория» представляет собой яркий образец того незаконного перенесения явлений, характерных для одной эпохи развития общества, — на другую эпоху, в условиях которой эти явления исторически невозможны, против чего И. В. Сталин предостерегает т. Холопова. В основе этой «теории» лежит перенос в обстановку первобытного общества условий общества классового, «когда эксплуататорские классы являются господствующей силой в мире, когда национальный и колониальный гнет остается в силе, когда национальная обособленность и взаимное недоверие наций закреплены государственными различиями, когда нет еще национального равноправия, когда скрещивание языков происходит в порядке борьбы за господство одного из языков, когда нет еще условий для мирного и дружественного сотрудничества наций и языков, когда на очереди стоит не сотрудничество и взаимное обогащение языков, а ассимиляция одних и победа других языков. Понятно, что в таких условиях могут быть лишь победившие и побежденные языки. Именно эти условия имеет в виду формула Сталина, когда она говорит, что скрещивание, скажем, двух языков дает в результате не образование нового языка, а победу одного из языков и поражение другого»[31].
Товарищ Сталин показывает в этом контексте несостоятельность попытки т. Холопова перенести эти закономерности на процессы, характерные для коммунистического общества, и на этом основании «отменить» гениальный прогноз товарища Сталина о путях развития языка в коммунистическом общество, данный в докладе на XVI съезде ВКП(б). Но, бесспорно, что столь же несостоятельной явилась бы попытка перенести закономерности, свойственные классовому обществу, на эпоху первобытно-общинного строя, для которого характерны совершенно другие условия взаимоотношения языков.
Создатели «праязыковой теории», весьма далекие от марксизма и не видевшие существенного различия между классовым и первобытным обществом, переносили закономерности, наблюденные в исторических взаимоотношениях языков первого, — на последнее. В частности, единственным исторически зарегистрированным примером «праязыка», постоянно привлекаемым сторонниками «праязыковой теории», является так называемая «вульгарная латынь», легшая в основу современных романских языков. Однако, как известно, процесс образования этих языков происходил в условиях распада Римской империи, в условиях перехода от рабства к феодализму, и латынь являлась языком господствующей народности этой империи, который в центральных районах империи и вышел победителем в борьбе языков, сопровождавшей складывание «из разных рас и племен» новых народностей, выступающих на историческую сцену в раннем средневековье.
Ни одна иная группа индоевропейских языков (за исключением, может быть, иранской), как и вся индоевропейская семья языков, не образовывалась в сколько-нибудь напоминающих эту историческую ситуацию
[15]
условиях. Все они сложились еще в эпоху первобытно-общинного строя, когда процессы, подобные процессу образования романских языков и тому, который реконструируется в любой праязыковой схеме, были попросту невозможны.
Формула «праязыка», применимая к частным случаям образования языковых групп в условиях классового, рабовладельческого и феодального общества (романская, может быть, иранская, тюркская языковые группы), возможно, применимая к некоторым весьма редким случаям эпохи перехода от доклассового общества к классовому, когда с этим переходом была связана колонизация из одного центра незаселенных или мало заселенных окраинных областей земного шара (малайско-полинезийские языки, языки банту),— неприменима к подавляющему большинству языковых групп (семей), сложившихся еще в доклассовом, первобытно-общинном родовом обществе.
«Теория праязыка», если понимать ее так, как ее понимают ее сторонники, т. е. не как историческое истолкование отдельных, частных случаев образования языковых групп, а как общеобязательную, универсальную теорию развития языков, не может дать удовлетворительного ответа ни на один вопрос, который перед ней вправе поставить историк. Поэтому совершенно не случайно наиболее серьезные и честные представители этой теории попросту категорически отказываются отвечать на эти вопросы. Мейе пишет:
«Не известно, ни где, ни когда, ни кто говорил на языке, из которого развились исторически засвидетельствованные языки и который условно называют индоевропейским... Этот вопрос, интересный более для историка, чем для лингвиста, не может быть решен путем изучения лингвистических данных. Впрочем, лингвисту вообще нет другого дела, кроме как истолковывать системы соответствий, устанавливаемых между разными языками; а где бы ни говорили на «индоевропейском языке», в Европе или в Азии, это ничего не меняет в этих системах, которые одни представляют осязаемую реальность и, следовательно, единственный предмет сравнительной грамматики индоевропейских языков»[32].
Перед нами — не только полный отказ от тех громких претензий восстановить первобытную историю «индоевропейцев», с которыми «праязыковая теория» выступила на историческую арену. Перед нами признание полного теоретического банкротства этой «теории», сводимой практически к «истолкованию» — притом отнюдь не историческому — «системы соответствий, устанавливаемых между различными языками».
Перед нами признание того, что «праязыковая теория», как универсальная теория исторического развития языков и образования языковых групп (семей), не в силах ответить на обязательное требование, поставленное товарищем Сталиным перед языковедами-марксистами: «...язык и законы его развития можно понять лишь в том случае, если он изучается в неразрывной связи с историей общества, с историей народа, которому принадлежит изучаемый язык и который является творцом и носителем этого языка».[33]IV
Возможна ли гипотеза — пока, конечно, только гипотеза,— которая, опираясь на конкретные историко-этнографические и языковые факты и исходя из марксистско-ленинского учения о языке, поднятого на новую ступень И. В. Сталиным, могла бы попытаться объяснить, как «объясненные» праязыковой теорией, так и необъясненные, а лишь наблюденные и систематизированные лингвистические факты? Нам представляется, что такая гипотеза возможна и зародыши ее уже есть.
[16]
Чтобы обосновать эту гипотезу, мы должны встать на тот путь, на который встал в свое время Энгельс для того, чтобы понять природу первобытно-общинного строя: мы должны обратиться к этнографическому материалу, к хозяйству, общественному строю и языкам народов, стоящих или стоявших сравнительно недавно на первобытно-общинном этапе развития. По этому пути идет и товарищ Сталин, когда ссылается на этнографический материал, показывая несостоятельность «теории» о равнозначности языка слов и языка жестов.[34] Кстати сказать, языками народов первобытно-общинного строя Марр совсем не занимался, с его точки зрения они оказались «совсем не первобытными». Для Марра самым важным признаком «непервобытности», например, австралийских языков было наличие в них личных и притяжательных местоимений — явный, с точки зрения «нового учения о языке», признак экономического обособления личности и развития... частной собственности. Поэтому Марр предпочел искать первобытность в... китайском языке.
Если обратиться к материалу тех областей земного шара, где, до открытия их европейцами, народы с первобытно-общинным строем развивались наиболее независимо от всяких влияний со стороны обществ, достигших рабовладельческой и феодальной стадии, то наилучшими объектами будут Австралия, Новая Гвинея и в меньшей мере Америка. Все эти области характеризуются крайней множественностью языков. В Австралии, коренное население которой в начале XIX в. исчислялось приблизительно в 300 тысяч, существовало не менее пятисот языков или «диалектов». На еще очень плохо исследованной Новой Гвинее число самостоятельных языковых семей доходит до сотни. В бассейне р. Флей,— по размеру нечто вроде нашей Москвы-реки,— зарегистрировано 16 самостоятельных языков, группирующихся в 7 семей с разным словарем, системой местоимений и т. д. В Америке после массового истребления коренного населения все же сейчас имеется свыше 1000 самостоятельных языков, разбивающихся, по Н. Риве, на 123 семьи. Другие исследователи насчитывают их еще больше. Чтобы отдать себе отчет в смысле этих цифр, достаточно сказать, что в современной Европе (без Кавказа) имеется всего около пятидесяти языков, объединяемых в одиннадцать групп, входящих, в свою очередь, в две языковые семьи (индоевропейская, урало-алтайская), к которым нужно добавить обособленный баскский язык.
Однако, присматриваясь к этим семьям и языкам, в особенности к австралийским и новогвинейским, так называемым папуасским, мы не можем не обратить внимания на весьма характерную особенность: все попытки классифицировать эти языки крайне спорны. То, что один автор группирует по определенным признакам в одну семью, то другой распределяет по нескольким и обратно. Попытка В. Шмидта (ее в 1948 г. повторяет уже цитированный Т. Милевский) сконструировать одну большую южноавстралийскую семью языков встретила резкую критику: туда попали народы с совсем разными языками. Однако не подлежит сомнению широкое распространение по всей Южной Австралии некоторого, правда, очень незначительного, фонда общих лексических и грамматических элементов.
Обычно говорят об австралийских племенных «диалектах». Однако на деле, на большей части территории Австралии консолидировавшихся племен, четко ограниченных территориально, обладающих органами племенного управления, фактически не существовало. В этом отношении я должен согласиться с весьма убедительной характеристикой, данной этой стороне жизни австралийцев нашим ленинградским австраловедом Н. А. Бутиновым. Он пишет:
«Соседние племена не были резко отграничены одно от другого.
[17]
Австралийцы, живущие на границе между разными племенами, иногда относили себя к одному, иногда к другому племени. Диалект одного племени незаметно переходил в диалект другого, так что лингвистические границы также были очень расплывчаты».
Собственно «диалект»-то и был единственным признаком большинства австралийских «племен». Практически действенной социально-экономической единицей являлся род или подразделение рода, так называемая «локальная группа». Это была хозяйственно самодовлеющая и полностью самоуправляющаяся группа, вынужденная поддерживать общение с другими только в силу действующего в ее пределах закона экзогамии. Хозяйственная обособленность рода, полностью удовлетворяющего свои потребности на своей охотничьей территории, находится в противоречивом единстве с несамостоятельностью рода, как семейно-брачного института. Род не может существовать без других родов, так как внутри рода брак абсолютно запрещен.
Здесь не место поднимать вопрос о происхождении экзогамии, по которому написаны сотни томов и который до сих пор остается дискуссионным. Несомненно одно: экзогамия неразрывно связана с развитием грубой и примитивной, но уже чисто человеческой половой морали, порожденной настоятельными потребностями упорядочения половой жизни локального хозяйственного коллектива, который с появлением экзогамии становится коллективом родовым — первобытная община отделяется от первобытного стада. Это упорядочение носит грубый и примитивный характер, выражаясь в полном запрете половой жизни в пределах хозяйственного коллектива, чем создается потребность в общении с представителями других коллективов. На этой почве возникает одно из интереснейших явлений первобытной истории — так называемая «брачноклассовая система» и «дуальная организация». Ошибкой этнографов, занимавшихся этой проблемой (в частности, и моей ошибкой) является то, что «дуальная организация» с самого начала рассматривается как союз двух родов — как бы зачаток племени, а «брачноклассовая система» — как внутриплеменная форма регулирования брака. Этим и объясняется отрицательное отношение этнографов к рассмотрению рода и племени, как двух последовательных ступеней истории первобытного общества. Естественно, раз род с самого начала — часть племени, не может быть речи о такой последовательности. Но вся суть в том, что род первоначально — вовсе не часть племени, а в хозяйственном отношении самодовлеющий коллектив, связанный с другими коллективами взаимными брачными отношениями на основах экзогамии. Здесь наши этнографы находились под влиянием схемы Моргана; этому влиянию подвергся и Энгельс, который, следуя Моргану, недооценил определяющую роль материального производства в истории первобытного общества.[35] Сейчас мы видим, что, несомненно, есть все основания предполагать существование доплеменной стадии в истории родового общества.
У большинства австралийских «племен», т. е. групп, говорящих на отдельных языках или отдельных «диалектах», «половины» (фратрии) и «брачные классы» не ограничены пределами «племени». Они, по крайней мере теоретически, охватывают весь континент. Любой австралиец в любой части Австралии найдет своих «братьев» и «сестер» и своих потенциальных «жен».
Естественно, каждый род, живя своей замкнутой хозяйственной жизнью, имеет свойственный только ему язык. Однако, общаясь на почве брачной жизни с другими родами, люди разных родов нуждаются в известном минимуме взаимного понимания. В процессе общения между
[18]
родами их родовые языки идут по пути взаимообмена, взаимопроникновения, приводящего в итоге тысячелетней истории первобытных род к созданию характерной, невидимому, для исторической ступени раннего (доплеменного) родового строя, того, что я назвал бы своего рода «первобытной лингвистической непрерывностью». Языки ближайших локально-родовых групп близки между собой. По мере передвижения к более удаленным локально-родовым группам эта близость уменьшается, однако долго не исчезает, и, что самое главное, на каждом отрезке территории эта близость неизменно сохраняется, так что каждая пара произвольно взятых соседних локально-родовых языков оказывается допускающей взаимное понимание. Нет резких лингвистических границ как правильно подчеркивает т. Бутинов. Все первобытные языки оказываются по степени близости друг к другу на положении позднейших диалектов или даже говоров, — однако при удалении на определенное расстояние взаимная понимаемость постепенно исчезает. Перед нами вместе с тем отнюдь не диалекты в современном понимании этого слова, а самостоятельные языки, ибо кроме них никаких других языков не существует и каждый из них является орудием общения экономически самодовлеющего коллектива. Можно, конечно, при желании объединить эти «диалекты» в группы, назвав эти групп «языками», и в более широкие группы, наименовав их «семьями», наподобие современных языков и семей языков народов Европы и Азии.
Но это будет насилием над материалом, и насильственный характер такого мероприятия сказывается в невозможности для лингвистов договориться о единой классификации. Естественно, любое переселение рода или группы родов даже на небольшое расстояние вызывает разрыв этой первобытной непрерывности. Этим явно вызвана большая лингвистическая пестрота центральных областей Австралии, заселявшихся поздно и из разных районов побережья. Но если продолжают действовать прежние исторические условия, рано или поздно эта непрерывность восстанавливается.
Для Новой Гвинеи чрезвычайно ярко и убедительно «первобытную лингвистическую непрерывность» охарактеризовал выдающийся русский этнограф-путешественник Миклухо-Маклай, блестяще уловивший то, что осталось книгой за семью печатями для специалистов по папуасским языкам, так и не разобравшихся до сих пор в этих языках. Вот что пишет Миклухо-Маклай:
«Почти в каждой деревне Берега Маклая — свое наречие. В деревнях, отстоящих на четверть часа ходьбы друг от друга, имеется уже несколько различных слов для обозначения одних и тех же предмета жители деревень, находящихся на расстоянии часа ходьбы одна от другой, говорят иногда на столь различных наречиях, что почти не понимают друг друга. Во время моих экскурсий, если они длились больше одного дня, мне требовалось два или даже три переводчика, которые должны были переводить один другому вопросы и ответы».[36]
Собранные Н. Н. Миклухо-Маклаем словари с громадной убедительностью показывают самый характер этой непрерывности. Мы видим, что в соседних деревнях основной словарный фонд характеризуется значительными совпадениями и одновременно значительными различиями. Характер языков допускает, несомненно, взаимное понимание соседей, хотя язык каждой деревни остается своеобразным.
Это вместе с тем первое в литературе, насколько нам известно, упоминание о родовых языках, так как «деревни» Миклухо-Маклая по всем данным — родовые поселения (см. описание Миклухо-Маклаем брачных обрядов папуасов Берега Маклая, явно указывающее на экзо-
[19]
гамность деревень)[37]. Никаких указаний на существование племен у папуасов Берега Маклая ни Н. Н. Миклухо-Маклай, ни последующие исследователи не дают.
Образование «первобытной лингвистической непрерывности», свойственной ступени родовых языков, не есть скрещение в том смысле, как понимал это Марр, и в том смысле, какой вкладывают в этот термин его ученики. Ничего общего этот процесс не имеет по своему характеру, скажем, со скрещением англо-саксонского и французского языков. Это тянувшийся не годами, конечно, и даже не сотнями лет, а тысячелетиями и десятками тысячелетий постепенный процесс взаимодействия и взаимопроникновения примитивных родовых языков, порожденный противоречием между хозяйственной замкнутостью рода и его семейнобрачной зависимостью от других родов.
Взятые нами примеры относятся к территориям, поздно заселенным человеком, уже через много десятков тысяч лет после того, как человечество выработало членораздельную речь. Несомненно, это заселение было неоднократным актом, тянулось долгие века, приносило в Новую Гвинею и Австралию различные группы из Юго-восточной Азии, говорившие, конечно, на весьма различных языках. Таким образом, здесь (как и в Центральной Австралии в гораздо более позднюю эпоху) был «разрыв первобытной непрерывности» и потребовались, конечно, века, если не тысячи лет, чтобы ее восстановить. На континенте Старого Света жизнь человечества длилась непрерывно, с момента его возникновения. Здесь тоже были, конечно, переселения племен, приводившие к «разрывам непрерывности», но эти движения, происходившие на уже освоенной человеком территории, носили более частный характер и не могли иметь столь значительных результатов. В силу этого последствия взаимосближения языков на территории Старого Света должны были быть в рамках той же исторической эпохи (грубо говоря — к концу неолита) гораздо более значительны, чем в Австралии и Новой Гвинее. Основы общности ныне существующих языковых групп восходят, с нашей точки зрения, уже к этой эпохе и слагались в течение долгих тысячелетий, начиная с возникновения родовых языков.
Положения, развиваемые нами здесь, не являются в сущности говоря, новыми. «Теория контакта» проф. Д. В. Бубриха, говорившего о «родовых диалектах, развивавшихся в контакте», как основе формирования финноугорских языков[38], вызвавшая оживленную и плодотворную дискуссию между Д. В. Бубрихом и Н. Н. Чебоксаровым на страницах «Советской этнографии»[39], в сущности говоря, вплотную подходит к формулировке положения о «первобытной лингвистической непрерывности». Д. В. Бубриху мешала, с одной стороны, оглядка на Марра и особенно на И. И. Мещанинова, с другой, — ограничение чисто лингвистическим материалом, взятым вне времени и пространства, без увязки с данными археологии и этнографии, т. е. вне связи с историей народов.
Надо сказать, что Н. Н. Чебоксаров, исходя из вышеупомянутой ошибки этнографов в вопросе об историческом соотношении рода и племени, занял в этой дискуссии также неправильную позицию по вопросу о родовых языках.
Зародыши же «теории контакта», правда, в очень примитивной форме, можно видеть уже в некоторых лингвистических построениях прош-
[20]
лого столетия, в частности, в так называемой «волновой теории» Шмидта.
Языки племен и племенных союзов формируются на базе этой «первобытной непрерывности» родовых языков не столько путем скрещения (хотя здесь и скрещение уже, вероятно, в форме ассимиляции языков родов и групп, разрывающих «первобытную непрерывность» сколько путем концентрации преобладающих признаков, характерных для языков территории формирования племени или союза племен.
Учение Маркса о концентрации диалектов, как о пути развития национальных языков, углубленное и поднятое на высшую ступень товарищем Сталиным, является здесь для нас принципиальным руководящим указанием. Поскольку первобытные родовые языки находятся по отношению друг к другу в такой же степени близости, как диалекты языков позднейших народностей, процесс концентрации этих первобытных языков в ходе формирования племен и союзов племен является столь же закономерным, как процесс концентрации диалектов, легших в основу формирования национальных языков.
Специфически характерное для языков отдельных родов отмирает, общее для всех объединяющихся родов получает развитие, обогащаясь новообразованиями, свойственными уже всему племени или племенному союзу.
И. И. Мещанинов в своем выступлении на финноугорской сессии Ленинградского университета в 1948 г. развил идею о том, что племенные языки не могут возникнуть раньше возникновения племени, что язык союза племен не может возникнуть раньше союза племен, что язык народностей не может возникнуть раньше, чем возникают государства.[40]
Мне представляется, что этот тезис не верен. Он отражает порочную марровскую теорию стадиальности. Не надо забывать, что, как указывает товарищ Сталин, языковая общность, являющаяся неотъемлемым признаком нации, слагается «исподволь, еще в период докапиталистический»[41]. Хотя и нельзя механически переносить процессы, сопутствующие образованию национальных языков, на более ранние периоды, однако исторически несомненно существование зародышей племенных языков, т. е. какой-то языковой общности, предшествующей образованию племени, как социальной общности, и являющейся предпосылкой создания племени, ибо племена не могут возникнуть «путем взрыва» из непонимающих друг друга родов. Гипотеза «первобытной лингвистической непрерывности» объясняет это положение, ибо все территориально смежные родовые языки оказываются настолько близкими между собой, что они становятся естественной основой для образования племенного языка. То же самое происходит позднее с образованием языков союзов племен.
Однако образование племен и союзов племен ведет к серьезным последствиям в дальнейшем развитии человеческой речи. Их языки выделяются из «первобытной лингвистической непрерывности». Поскольку концентрация преобладающих признаков происходит вокруг различных центров, языки расходятся между собой, становятся более различными, появляются резкие лингвистические границы. Языков становится меньше, но различаются они между собой больше, чем на предшествующей стадии.
Таким образом, на этом историческом этапе «схождение» и «расхождение» — это лишь две стороны одного и того же процесса, и противопоставлять их друг другу
[21]
невозможно. Процесс концентрации языков племен и племенных союзов одновременно является процессом разрыва «первобытной лингвистической непрерывности», уже не механического, как в случае с переселением, а вызванного внутренним развитием общества.
Характерно, что как раз в той части Австралии, где мы имеем оформившиеся племена, характеризующиеся племенной эндогамией, наличием племенных советов и вождей, где налицо уже по существу все признаки племени, даваемые Энгельсом, — мы наблюдаем весьма отличную от остальной Австралии картину — резкую обособленность племенных языков.
Формирование языков союзов племен также происходит на уже созданной «первобытной лингвистической непрерывностью» базе. Как правило, члены союза племен говорят на «диалектах одного языка», точнее на близко родственных языках. Вхождение в союз племен иноязычных элементов — исключение, и они быстро ассимилируются. Эти процессы можно наблюдать в недавнем историческом прошлом индейцев Америки[42].
Мне представляется, что именно на почве «первобытной лингвистической непрерывности», усложненной формированием племен и союзов племен, идет и процесс образования индоевропейских языков, так же как и других групп родственных языков. Значительная часть тех общих элементов, которые связывают эти языки, восходит таким образом не ко II или концу III тысячелетия до н. э., когда якобы начинается процесс расселения индоевропейских народов, а к гораздо большей, вероятно, палеолитической древности.
Мне приходилось уже отмечать в одной из моих работ (1946 г.), что в древний период было индоевропейских «групп гораздо больше (вероятно, значительную часть их мы не знаем), и они значительно ближе друг к другу, образуя цепь незаметных переходов (кельтские <--> италийские (<—> эллинские) <- > иллирийские <—> фракийские («—> фригийские <—> палеоармянские)<—>скифо-сарматские<—>палеоиранские <—> палеоиндийские)»[43].
Думаю, что этот тезис, вполне соответствующий имеющимся в нашем распоряжении фактам, и сейчас полностью сохраняет свою силу. В этом — проявление традиции «первобытной лингвистической непрерывности». В той же работе 1946 г. я обратил внимание на характерную особенность распространения типов морфологического и синтаксического строя языков земного шара. Эта особенность состоит в том, что языки, принадлежащие к различным группам (семьям), но расположенные на смежных территориях, образуют как бы непрерывную систему переходов. Если на юго-западе эйкумены преобладают префиксирующие формы, характеризуемые тенденцией к моносиллабизму и согласному корню, развитием классовой префиксации и артиклей (наиболее характерные представители — языки банту), то на северо-востоке доминируют формы суффиксирующие, с широким развитием инкорпорации и агглютинации, с господством сингармонизма (наиболее характерные представители — тюркские языки). Между обоими этими полюсами лежит обширная переходная полоса, в языках которой (индоевропейские, кавказские, сино-тибетские) наблюдаются разнообразные сочетания обоих описанных выше типов.
В упомянутой выше статье я был, под влиянием Н. Я. Марра, склонен толковать эту переходную полосу как зону скрещения обоих крайних типов, которые я считал исходными, тогда как на самом
[22]
деле наблюденные факты должны быть объяснены как проявление наследия «первобытной лингвистической непрерывности».
Все данные, которыми располагают советские археология, этнография, антропология, показывают преемственность большинства основных этнических групп современного населения СССР и древнего населения тех же территорий. То же самое устанавливается и для других обследованных нашими специалистами территорий Европы и Азии. Цепь между трипольцами -— скифами-пахарями — антами — восточными славянами, как и цепь между создателями лужицкой культуры и западными славянами, археологически доказана достаточно убедительно. Особенно ярким фактом является открытая Городцовым[44] и блестяще доказанная во всех звеньях Рыбаковым[45] преемственность скифского и восточнославянского народного искусства. Работы советских антропологов не менее убедительно показали преемственность разнообразных антропологических типов древнего (начиная по меньшей мере с неолита) населения Восточной Европы и разнообразных типов современных славян[46].
Процесс сложения славянства как культурной и языковой общности, конечно, исторически завершился в определенную эпоху. Вряд ли у кого есть сомнение, что это был период культуры полей погребальных урн — первые века до и после начала нашей эры. Никаких археологических или антропологических данных о том, что славяне расселились незадолго до их появления на страницах письменных источников из Пинских болот, из Прикарпатья, из междуречья Немана и Вислы или откуда-нибудь еще, откуда их ведут сторонники «праязыковой теории», у нас нет. А трудно предположить, чтобы такой процесс не оставил следа. Наоборот, мы видим, что археолого-этнографические факты противоречат этому, показывая, что славянские народы уходят своими глубокими историческими корнями в ту почву, на которой они сейчас живут, за исключением окраинных районов, заселенных славянами уже поздно, в раннем средневековье (Балканский полуостров) и еще позднее— в феодальную эпоху (Заволжье, Сибирь).
Но если процесс формирования славянского единства завершился около начала нашей эры, то начался этот процесс на той же территории (от Эльбы до Дона и от Дуная до Балтики) за многие тысячи лет до этого. Если древнейшей основой его явилась «первобытная лингвистическая непрерывность», то в эпоху перехода к металлам, патриархального рода и «военной демократии» он вылился, в результате концентрации древних родовых и племенных языков, в несколько близкородственных протославянских комплексов, известных под названием западноскифских (сколотских), фракийских, иллиро-венетских, протобалтийских, путем дальнейшей концентрации (видимо, вокруг сколотского ядра) сложившихся в обстановке широких объединений племен, обусловленных их совместной борьбой против Восточно-римской империи, в славянское языковое единство. Именно эта многотысячная предыстория славянских языков определила их устойчивость на протяжении их засвидетельствованной письменными памятниками истории.
Таков, мне кажется, путь поисков разрешения проблемы происхождения языковых групп — проблемы, имеющей огромное значение для этнографии. Предложенная гипотеза, конечно, является только рабочей гипотезой — на большее сейчас было бы трудно претендовать. Можно надеяться, что свободная и широкая дискуссия по этому вопросу с уча-
[23]
стием как языковедов, так и этнографов и археологов, будет способствовать успешному разрешению поставленной проблемы. Бесспорно одно: «теория праязыка» завела в тупик буржуазное языкознание. Возврат к ней не сулит ничего хорошего и советскому языкознанию. Творческая разработка вопросов истории языка в неразрывной связи с историей общества, историей народов (а эта история существует и для древнейших времен, и с ней никто не имеет права не считаться), на основе сталинского учения о языке, с учетом всех действительных, а не мнимых достижений досоветского языковедения, — вот тот путь, идя по которому, можно не сомневаться в успехе.Мы заострили внимание лишь на одной, хотя и весьма важной проблеме, — общей для языковедения и этнографии, путь к разрешению которой указан в гениальных трудах товарища Сталина о марксизме и языкознании.
Этой проблемой, конечно, отнюдь не исчерпываются те поистине гигантские задачи, которые ставят перед советской этнографической наукой, как и перед любой другой отраслью общественной науки, новые труды величайшего ученого нашей эпохи. Нет сомнения, что труды товарища Сталина по языкознанию помогут советским этнографам пересмотреть многие их ошибки — в частности и те, которые связаны с влиянием порочных концепций Марра, что эти труды помогут нам в творческой разработке ряда важнейших вопросов нашей науки — как тех, которые связаны с изучением современной национальной культуры народов СССР и зарубежных стран, так и тех, которые связаны с изучением самых отдаленных эпох истории человечества, освещаемых этнографическими источниками.
«Общепризнано, что никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики» — учит нас товарищ Сталин.[47]
Дальнейшее, более широкое развитие свободных творческих дискуссий, широкое и всестороннее обсуждение всех узловых вопросов этнографии, дальнейшая разработка этих вопросов на основе методологии марксизма-ленинизма — таков залог успешного развития нашей науки.
* Переработанная стенограмма доклада, прочитанного автором на заседании Ученого совета Института этнографии Академии Наук СССР 27 июля 1950 г.
[1] В. В. Виноградов, Программа марксистского языкознания, «Правда» 4 июля 1950 г.
[2] А. С. Чикобава, О некоторых вопросах советского языкознания, «Правда» 9 мая 1950 г.
[3] «Правда», 30 мая 1950 г.
[4] «Правда», 13 июня 1950 г.
[5] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1950, стр; 33.
[6] Там же.
[7] В. И. Равдоникас, История первобытного общества, I, Л., 1939; II, Л., 1947.
[8] В. И. Равдоникас, Пещерные города Крыма и готская проблема в связи со стадиальным развитием Северного Причерноморья, «Готский сборник», Известия ГАИМК, XII, вып. 1—8, Л., 1932.
[9] См. «Советская этнография», 1948, № 3 стр. 153, 156, 158 и др.; № 4, стр. 192 сл.; 1949, № 1, стр. 219 сл.
[10] «Советская этнография», 1948, № 3, стр. 156.
[11] И. Сталин, Указ, раб., стр. 21—22.
[12] Там же, стр. 28.
[13] И. Сталин, Указ, раб., стр. 22
[14] Там же.
[15] Сталин, Указ, раб., стр. 7.
[16] Там же, стр. 17; см. также стр. 43—44.
[17] Там же, стр. 9.
[18] Там же, стр. 10.
[19] И. Сталин, Указ, раб., стр. 24—25.
[20] Там же, стр. 24.
[21] Там же, стр. 25—26.
[22] И. Сталин, Указ. раб., стр. 26.
[23] Там же, стр. 28.
[24] Там же, стр. 29.
[25] Там же, стр. 29—30.
[26] И. Сталин, Указ, раб., стр. 30.
[27] Там же, стр. 12.
[28] Там же, стр. 33—34.
[29] Список и итог этих полуторастолетних поисков более чем поучительны. Шлегель, один из предшественников и вдохновителей Боппа (1808 г.), помещал ее в Индии; Потт в 1833 г.— в бассейне Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи; Латам в 1851 г.— в Северной Франции и Южной Англии; Гобино в 1858. г.— на склонах Алтая и на берегах Байкала; Шлейхер в 1862 г.— на центральноазиатском плато; Бенфей в 1868— 1872 гг.— в Северном Причерноморье; Гейгер в 1871 г.— в Центральной и Западной Германии; Куно в 1861 г.— в Северной Европе, от Урала до Атлантического океана; Моммзен в 1874 г.— на берегах Евфрата; Ген в 1874 г. и Киперт в 1878 г.— между Индом и Аму-Дарьей; Пеше в 1878 г.— в болоте Рокитно, между Припятью, Березиной и Днепром; Пьетрман в 1878 г.— в Сибири и Восточном Казахстане; Гоммель в 1879 г.— на южном берегу Каспийского моря; Уильямс в 1882 г.— на Памире; Шрадер в 1883 г.— между Средней Европой и Аральским морем; Коссина в 1902 г., Вильке в 1909 г., Менгин в 1931 г.—в Северо-западной Европе; Эллиот Смит в 1934 г.— между Москвой и Уральскими горами; Э. Эйкштет в 1934 г.— в Казахстане; Пуассон в 1939 г.— между верховьями Днестра и низовьями Дона; Кун в 1939 г.— «где-то в Южной России или в Средней Азии»; Бедрих Грозный в 1940 г.— к западу от Алтая; Тадеуш Милевский в 1948 г.—в Тюрингии и Саксонии. Мы уже не говорим о таких «теориях», как теория Чайковского, помещавшего «прародину арийцев» на дне нынешнего Аральского моря, или теория одного немецкого автора, который помещал ее в многострадальной Атлантиде. Эта «погоня за призраками», таким образом, упорно продолжается и по сей день, причем практически не осталось уже почти ни одной страны из заселенных сейчас «индоевропейцами», (а частью и не заселенных таковыми и даже вообще не существующих), где бы ни пытались искать эту пресловутую «прародину».
[30] Т. Мilеvski, Zaris Jezykoznawstwa Ogólnego, часть I, вып. 1, Краков, 1948, стр. 408—409.
[31] И. Сталин, Указ, раб., стр. 52—53.
[32] А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М,— Л., 1938, стр. 107.
[33] И. Сталин, Указ. раб., стр. 22.
[34] И. Сталин, Указ, раб., стр. 46.
[35] См. по этому вопросу предисловие Института Маркса — Энгельса—Ленина к конспекту К. Маркса книги Л. Г. Моргана «Древнее общество», Архив Маркса и Энгельса, IX, М., 1941, стр. V.
[36] Н. Н. Миклухо-Маклай, Путешествия, I, М.— Л., 1940, стр. 243.
[37] Н. Н. Миклухо-Маклай, Путешествия, I, М.— Л., 1940, стр. 5.
[38] Д. В. Бубрих, Советское финноугорское языкознание, Ученые записки Ленинградского гос. университета, Серия востоковедческих наук, вып. 2, Л., 1948, стр. 30.
[39] См. «Советская этнография», 1948, № 3, стр. 176 сл.; 1949, № 2, стр. 189 сл., 197 сл.
[40] См. Ученые записки Ленинградского гос. университета, Серия востоковедческих наук, вып. 2, стр. 16—17.
[41] И. Сталин, Национальный вопрос и ленинизм, Соя., т. 11, стр. 336.
[42] См. Л. Г. Морган, Древнее общество, Л., 1934, стр, 73.
[43] С. П. Толстов, Проблема происхождения индоевропейцев и современная этнография и этнографическая лингвистика, «Краткие сообщения» Института этнографии, I, 1946, стр. 11.
[44] В. А. Городцов, Сако-сарматские религиозные элементы в русском народном творчестве, Труды Государственного исторического музея, в. 1, М.., 1926.
[45] Б. А. Рыбаков, Древние элементы в русском народном творчестве, «Советская этнография», 1948, № 1, стр. 90 сл.
[46] Т. А. Трофимова, Краниологические данные к этногенезу западных славян, «Советская этнография», 1948, № 2, стр. 60—61.
[47] И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, стр. 31.