-
- Centre de recherches en histoire et épistémologie comparée de la linguistique d'Europe centrale et orientale (CRECLECO) / Université de Lausanne // Научно-исследовательский центр по истории и сравнительной эпистемологии языкознания центральной и восточной Европы
-- С.Д. КАЦНЕЛЬСОН : Краткий очерк языкознания, Ленинград : ЛГУ, 1941.
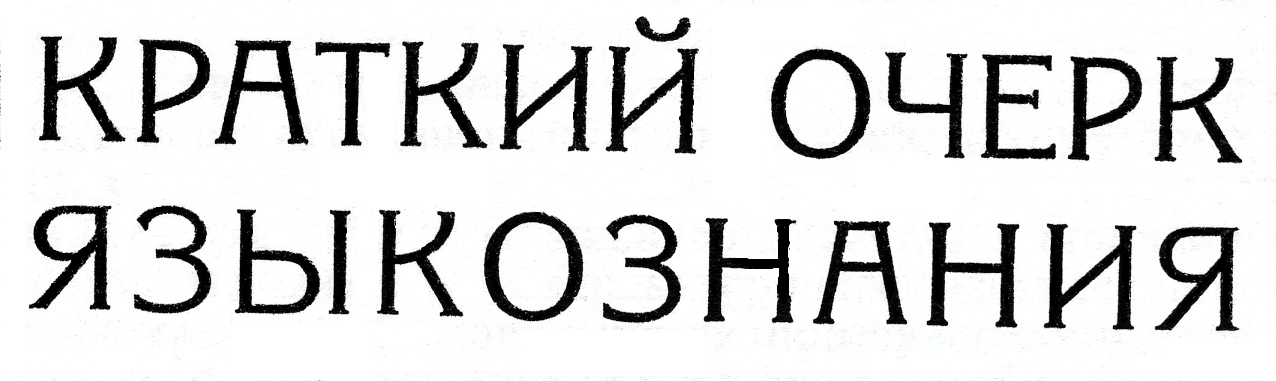
ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.
Язык и общество
4
Язык и мышление
8
Происхождение языка
15
Диалектика процесса развития языка
18
II. СТРОЙ ЯЗЫКА.
Грамматика и словарь
23
Лексикология
25
Семантика
27
История значений и стадиальность мышления
29
Грамматика
31
Морфология и синтаксис
33
Морфологическая классификация языков
36
Понятие синтаксического строя языка и стадиальная типология предложения
37
Фонетика
39
Фонетические законы
41
Множественность языков и лингвистическое родство
44
Семья языков и теория родословного древа
45
Литературный язык и диалекты
48
Национальный язык
49
Развитие языков в эпоху социализма. Общая тенденция глоттогонического процесса
50
Древнейший период в развитии языкознания
52
Эпоха Возрождения и расширение лингвистических иссле
дований
56
Сравнительно-историческое языкознание
59
Младограмматики
63
Кризис сравнительно-исторического языкозна ния
65
Марксистско-ленинское языкознание
68
БИБЛИОГРАФИЯ
[3]
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЯЗЫКАОбъект языкознания — язык, занимает своеобразное место в кругу других проявлений общественной духовной жизни. «Производство идей, представлений, сознания — писали Маркс и Энгельс — первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей — язык реальной жизни. Представление, мышление, духовное общение людей еще являются здесь непосредственно вытекающими из материального соотношения людей»[1]. Более полное и развернутое, ставшее классическим, определение языка дано в другом фрагменте из «Немецкой идеологии». Выяснив важнейшие стороны, составляющие материальную основу существования общественной жизни, Маркс и Энгельс отмечают: «Лишь теперь, после того как мы уже рассмотрели четыре момента, четыре стороны первоначальных исторических отношений, мы находим, что человек обладает также и 'сознанием'. Но и им он также обладает не с самого начала в виде 'чистого сознания'. На 'духе' с самого начала тяготеет проклятие 'отягощения' его материей, которая выступает здесь в виде движущихся слоев воздуха, звуков, — словом, в виде языка. Язык так же древен, как и сознание; язык как раз и есть практическое, существующее и для других людей, и лишь тем самым существующее также и для меня самого действительное сознание, и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной нужды в общении с другими людьми. Там, где существует какое-нибудь отношение, оно существует для меня; животное не 'относится' ни к чему и вообще не 'относится'; для животного его отношение к дру-
[4]
гим не существует как отношение. Таким образом, сознание с самого начала есть общественный продукт и остается им, пока вообще существуют люди».[2] Это пропитанное диалектикой определение языка дает блестящее разрешение ряда антиномий, в пределах которых развивалась домарксистская теоретическая мысль в области языка.ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО
Одним из труднейших вопросов языкознания, породившим множество ложных и путанных представлений, является проблема социальной обусловленности явлений языка. Непосредственные отношения здесь настолько ясны, факт существования языка в обществе настолько бесспорен и очевиден, что в той или иной форме этот факт всегда учитывался исследователями. Но затруднения неизменно возникали при первых попытках ближе определить характер взаимоотношений языка и общества. В буржуазном языкознании конца XIX и начала XX столетия утвердилась точка зрения, согласно которой обществу отводится лишь пассивная роль среды, в которой распространяются и циркулируют готовые лингвистические ценности, в то время как самый процесс производства этих ценностей выносится за пределы общества, в сферу отдельно взятого индивида. В основе таких представлений лежит метафизическое противопоставление общества и индивида, при котором общество мыслится как внешняя, независимо от личностей существующая, абстрактная сущность, а индивид, как самостоятельная сила, отрешенная от общества. Даже так называемая «социологическая школа» в языкознании, представленная именами женевского ученого Ф. де-Соссюра и его последователей, не представляет в этом пункте ощутимого исключения, так как и она творческие импульсы к развитию языка приписывает активности индивидов, а общество рассматривает как мертвую материю, словно эфир, проводящую волны, исходящие от отдельных лиц. По-
[5]
скольку индивид выступает в теоретических построениях этого рода как необщественный индивид, постольку его психофизическая организация, представляемая в виде исторически неизменной и постоянной величины, оказывается единственной и последней причиной всех языковых изменений. Физиология и акустика речи в сочетании с индивидуальной психологией призваны, таким образом, составить опору теоретического языкознания, а само языкознание незакономерно сближается с естественными науками. С другой стороны, поскольку общество предстает в таких воззрениях в виде лишенной реального содержания абстракции, постольку все социологическое содержание сводится в них к расплывчатой категории «общения». Любая, случайно возникающая и изменяющаяся комбинация лиц безоговорочно отождествляется здесь с обществом. Это наивное понимание общества каррикатурно воспроизведено самой буржуазной лингвистикой в рассуждениях, с которых в общих курсах обычно начинается анализ языка: два лица, выступающих попеременно в роли говорящего и слушателя, составляют здесь минимальную общественную ячейку, необходимую и достаточную для воссоздания процесса общественного круговорота речи.
Марксистское понимание языка решительно устраняет характерное для индоевропеистики понимание общества и индивида. Язык в нонимании марксизма есть продукт деятельности не «отдельной личности», а отдельных лиц, живущих не в абстрактном «обществе», а при данных конкретных общественно-исторических условиях. Представление об индивидах как реальных творцах истории языка этим не изгоняется из науки, но впервые реально утверждается, поскольку деятельность индивидов теперь изучается во всей сложности вызывающих ее к жизни условий и предпосылок. Вместе с тем существенно меняется определение социальной сущности языка. «Язык, - по словам Н. Я. Марра, — с точки зрения новой теории, есть не только орудие общественности. Недостаточно характеризовать его чересчур общей фразой: язык есть социальный факт, как это выходит у французских лингвистов во главе с Мейе. Обходятся молчанием генетический вопрос; между тем язык есть сам создание
[6]
общественности».[3] История языка, как одной из идеологических надстроек, должна быть разъяснена как следствие истории материальных общественных отношений. Такое объяснение вовсе не предполагает, конечно, непосредственного вынедения языковых фактов из экономических причин. Исследование должно учитывать все сложное переплетение реальных условий и взаимоотношений, в которых протекает процесс развития языка, что лишь в конечном счете ведет к материальным истокам общественной истории.
Противопоставление отдельной личности обществу в индоевропеистике не ограничивается сферой общих взаимоотношений языка и общества, но переносится непосредственно и в самый предмет исследования, — язык. При этом обычно язык сводится к механической сумме индивидуальных языков, а социальное в языке рассматривается как некая средняя величина, лишь приблизительно соответствующая подлинной реальности индивидуальных языков. Более глубокую и содержательную точку зрения развил де Соссюр, который различает «язык» (langue), как социальную ценность, и «речь» (parole), как индивидуальную реализацию, не только суммарно, в общей совокупности языковых явлений (langage), но и применительно к каждой частной области языка. Социальное и индивидуальное выступают у него как двоякий аспект любого лингвистического факта. Выделение этих понятий, противопоставляющих все постоянные и типические черты языковой системы ее второразрядным и менее существенным элементам, несомненно имеет под собой известное объективное основание и уже успело оказать плодотворное влияние на развитие ряда лингвистических дисциплин, преимущественно, — фонологии. Однако, содержание этих понятий и их соотношение должно быть подвергнуто кардинальному пересмотру. Нельзя расценивать «язык» (langue) как нечто но своей природе пассивное, извне воспринимаемое и регистрируемое отдельными лицами, а «речь» (parole) как действенный продукт ничем не ограниченной творческой инициативы индивида. Живые индивиды в их конкретных общественных связях являются необходимым
[7]
условием создания как «языка», так и «речи». Нельзя противополагать эти понятия и в функциональном отношении, придавая явлениям «языка» социальную значимость, а явлениям «речи» — чисто индивидуальное значение. Явления «речи» также обладают социальной значимостью, поскольку они заключают в себе элементы «языка» в исторически снятом или зародышевом состояниях, являясь так сказать «языком» в потенции. То, что в индивидуальном акте речи не имеет социального значения, например, физический дефект речи, вовсе не входит в «речь» и не представляет интереса для лингвиста. Явления индивидуальной «речи» социальны еще и в том смысле, что их принадлежность к «речи» , целиком вытекает из структуры «языка» и ею предопределяется; так, долгота звука может рассматриваться как элемент индивидуального говорения лишь в языках, где, как в русском, долгота не использована в системе языка. Одинаково и инверсия, в качестве стилистического приема, дана лишь там, где язык допускает т. н. свободный порядок слов. Таким образом как «язык», так и «речь» одинаково обладают социальным значением, хотя и обладают им в разных отношениях: в общей системе языковых фактов именно «языку» принадлежит доминирующая роль, покоящаяся на том, что он ближе и непосредственнее, связан с общественными условиями, обусловливающими развитие языка. История языка полна примерами перехода элементов «речи» в разряд явлении «языка» (как в случаях замены свободного порядка слов постоянным или фонологизации таких звуковых оттенков и вариаций, которые ранее не имели социального значения), и обратными примерами выпадения отдельных фактов из области «языка» в «речь». Соотношение этих категорий оказывается, таким образом, не абсолютным, а относительным и подвижным, каждый раз ограниченным рамками определенной исторической эпохи. Чтобы вскрыть закономерности в картине сложного взаимодействия «языка» и «речи», необходимо не терять из виду, что именно «langue» определяет содержание процесса языкового развития, что с «языка» начинается всякий раз перестройка существующей системы отношений, что структура «языка» определяет не только себя, но и структуру «речи».[8]
ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕЯзык неразрывно связан с мышлением, язык это — материализованное в звуках сознание, это — непосредственная действительность мысли, это — мысль в явлении. Постоянное отношение звука и мысли необходимо входит в определение языка. Там, где отсутствует хоть один из членов отношения, там, естественно, отсутствует все отношение. Не только такие лингвистические категории как предложение и слово предполагают единство-звучания и значения, но даже звук речи становится предметом языковедных занятий лишь постольку, поскольку учитывается его знаменательность в общем контексте языка. Как, абстрагируясь от звука, мы попадаем в область «чистого» сознания, в область логики, психологии и т. п., так, абстрагируясь от сознания, мы, изучая звуки, покидаем почву языка и переходим в область физиологии и акустики речи.
Возникшее в начале XIX в. сравнительно-историческое языкознание выработало в процессе своего развития две на первый взгляд противоположные и непримиримые теории вопроса о связи языка и мышления. Одна точка зрения, восходящая к В. Гумбольдту, основана на началах кантианской психологии мышления и нередко обозначается как «нативистическая» концепция языка и мышления. Рассматривая язык, как средство создания категорий мысли, представители этого направления исходят не из актуальных значений слов, данных в повседневном словоупотреблении, а из предполагаемого первоначального смысла (этимологического значения) слова. В основе каждого слова анализ открывает один какой-либо признак, выхваченный из общей совокупности признаков предмета, обозначенного данным словом, так, например, заяц-беляк получил свое название по признаку белизны, которым он обладает зимой; тот же признак лежит в основе слова «белье» (все что белится, что выбелено на солнце); дятел (собственно, — зубарь ср. лат. dens, dent-is «зуб») назван по клюву, которым он долбит; одуванчик — по свойству пушистого семени этого растения «обдуваться» ветром (в диалектах это растение по другим признакам называется «летучки», «пухлянка», «молочник»). Роль слова
[9]
в процессе познания изображается при этом следующим образом: сознание строит свой мир из множества отдельных впечатлений и признаков, изначально между собой не связанных, единство и связь вносятся в хаотический мир отдельных ощущений самим сознанием; из огромного множества признаков, свойственных предмету, сознание как бы произвольно отбирает один признак, который делается представителем определенной совокупности свойств; слово, непосредственно выступающее как название такого признака-заместителя, впоследствии может утратить свой первоначальный смысл (мы употребляем, например, слова «рыба», «собака» и многие другие, не зная, какие признаки выражали первоначально эти слова), но эта утрата может наступить лишь после того, как предмет достаточно четко выделился в сознании и слово выполнило свое основное назначение в акте познания. В таком понимании предметная реальность внешнего мира идеалистически извращается и все богатство отношений объективной действительности неправомерно истолковывается как результат внутренней деятельности мистической духовной силы. Вместе с тем сама духовная деятельность в построениях этого рода теряет свое единство. Считая, что представлениям о предметах в действительности ничего не соответствует, что они являются лишь продуктом синтетической способности разума, проявляющейся в процессе наречения, сторонники нативистического направления склонны придавать расхождениям в форме и способе наречения исключительное значение. Из того факта, что в основе слов с одинаковым смыслом в разных языках нередко лежат различные исходные значения (ср. например, русское «город», связанное с глаголом «городить, огораживать», и немецкое «Stadt» — «город», — первоначально «место», сюда же русское «местечко» в значении «городок») сторонники нативистической концепции делали реакционный вывод о наличии особых национальных типов мышления, соответствующих отдельным языкам. Каждый язык, согласно этой точке зрения, с момента возникновения как бы обведен кругом своего национальнаго духа, из плена которого он вечно вырваться не может. Так единая ткань человеческого мышления разрывается на отдельные разрозненные и пе-
[10]
стрые лоскутки, причем шовинистическая мысль буржуазного исследователя стремится выделить «свой» язык в качестве носителя «высшей» и «благороднейшей» формы «народного духа».
В основе подобных заблуждений лежит прямое и абсолютное отождествление явлений языка и сознания: все факты языка целиком и без остатка сводятся здесь к необходимым и существенным процессам развития человеческого мышления, а процесс создания слова, со всеми случайными историческими обстоятельствами, сопутствующими выбору признака в качестве основы наименования, механически приравнивается здесь к психологическому процессу формирования образов и понятий. Именно вследствие этого многообразие языков мира так легко создает в умах приверженцев этой концепции иллюзию существования обособленных национальных типов мышления.
Другая точка зрения, господствующая в буржуазном языкознании конца XIX и начала XX века, сложилась в результате реакции против мистической террии «народного духа». В работах представителей нового направления исходным пунктом служит не акт наречения, а процесс употребления готовых слов. Место этимологического значения занимает теперь актуальное, данное в момент употребления значение, а односторонне-генетический подход к явлениям языка вытесняется телеологическим. Ссылаясь на звуковые различия наименований одного и того же понятия в разных языках (ср. русск. «стол», нем. Tisch, французск. table, латинск. mensa и т. д.), сторонники новой теории склонны рассматривать слова, как произвольные знаки идей, как звуковые ярлычки условного характера, а язык в целом — как систему таких условных символов. Знак идеи, хотя и немыслим без того, знаком чего он является, тем не менее отнюдь не находится в необходимой с ним связи. Мышление рассматривается здесь, как некая неподлежащая дальнейшему определению стихия, которая хотя и сопутствует постоянно явлениям речи, но, в сущности, остается им чуждой. Если приверженцы теории «народного духа» отождествляют акт наименования с возникновением идеи или понятия, то сторонники теории «условных знаков» решительно разграничивают этн моменты. Идея в их понимании су-
[11]
ществует независимо от знака, она предшествует появлению знака и, как токовая, не представляет ничего интересного для языковеда. Языковеда может интересовать лишь момент механической связи знака и идеи, момент их случайного сцепления. Слова с этой точки зрения лишь «деньги духа». Как деньги выражают лишь нечто чуждое потребительской стоимости товара и могут в силу этого быть обменены на физически разнородные товары, точно так же и слова, не будучи естественно связаны с обозначаемыми ими идеями, могут быть «обменены» на разные идеи: одно и то же сочетание звуков может в разных языках иметь различное значение. Правда, в ряде случаев, когда первоначальный смысл слова еще не затемнен, как, например, в словах «подснежник», «одуванчик», «громкоговоритель», можно открыть элемент связи между именем и его значением, но такие случаи объявляются теперь нехарактерными для языка в целом. В итоге второе направление, хотя прямо и не отрицает связи языка и мышления, но по сути дела отчуждает мышление и изгоняет его из сферы специальных лингвистических интересов, открывая тем самым путь для узко-формалистического понимания явлений языка.
Марксистское понимание языка устраняет субъективизм старых направлений, раскрывая сложную диалектику формы и содержания в языке. Язык не есть нечто внешнее и постороннее для мышления. Вскрывая ложность сопоставления языка с деньгами, Маркс писал: «Идеи не превращаются в язык таким образом, чтобы при этом исчезло их своеобразие, а их общественный характер продолжал существовать наряду с ними в языке, подобно тому как цены существуют наряду с товарами. Идеи не существуют оторванно от языка. Идеи, которые должны быть предварительно переведены с их родного языка на чужой язык, чтобы обращаться, чтобы стать способными к обмену, представляют уже больше аналогии; но аналогия здесь заключается не в языке, а в его чуждости» («Экономические рукописи 1857-1858 гг.»).[4] Исходный пункт марксистского анализа языка и мышления составляет диалектика общего и единичного, данная в любом слове, любом
[12]
предложении. Слово само по себе выражает не единичный предмет, как таковой, а единичный предмет в его отношении к другим единичным предметам, оно выражает родовое в отдельном и служит обозначением целых классов предметов. "NB — отмечает Ленин в одном из своих философских конспектов, — в языке есть только общее",[5] и в другом месте добавляет: "Всякое слово (речь) уже обобщает", "Чувства показывают реальность; мысль и слово — общее".[6] Отмечая своеобразный характер отражения природы в слове, марксистское понимание языка вместе с тем в корне отрицает априорный характер общего. Общее в языке и мышлении является отражением объективных связей действительного мира. Неверно, думать, будто в действительности существует лишь отдельное и единичное, а ."общее" привносится в мир вещей извне сознанием. "Природа и конкретна и абстрактна, и явление и суть, имгновение и отношение" (Ленин).[7] Абстрактной сущностью языка, таким образом, обусловлена возможность объективного отражения явлений природы, но из нее же вытекает и возможность субъективизма, отхода от реальности. "Подход ума (человека) к отдельной вещи,— разъясняет Ленин, — снятие слепка (= понятия) с нее не есть простоq, непосредственный, зеркально-мертвый акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный, включающий в себя возможность отлета фантазии от жизни; мало того: возможность превращения (и притом незаметного, несознаваемого человеком превращения) абстрактного понятия, идеи в фантазию (в последнем счете = бога). Ибо и в самом простом обобщении, в элементарнейшей общей идее ("стол" вообще) есть известный кусочек фантазии" (Ленин).[8] Диалектика общего и единичного, содержащаяся в зародыше в любом слове и любом предложении, является, таким образом, основой диалектики объективного и субъективного в языке и сознании.
Отражение объекта в сознании не является, следовательно, прямым, непосредственным и полным, это — сложный исторический процесс, обусловленный обще-
[13]
ственной практической деятельностью. По мере роста материальных производетельных сил, по мере того, как все значительней и шире становится круг предметов, охватываемых деятельностью людей, — объективное содержание мышления все углубляется, все в большей степени освобождается от элементов фантастики, диференцируется и уточняется в деталях. Чтобы быть конкретным, анализ истории языка должен проводиться с обязательным учетом истории человеческой мысли. Конкретное изучение истории языка-мышления при этом, естественно, не может ограничиться расплывчатой и недостаточно определенной формулой "от конкретного к абстрактному", которой иногда пытаются охватить общий ход процесса и его содержание. Необходимость изучения последовательных ступеней истории мышления — во всем качественном своеобразии и полноте проявлений каждой исторической ступени — настоятельно диктуется современным состоянием языкознания и смежных дисциплин. Это требование особенно четко сформулировал ак. Н. Я. Марр в своем учении о "стадиальности мышления". В свете современных данных можно наметить тотемистическое (или первобытно-логическое), образное (или мифологическое) и концептуальное (или технологическое) мышление в качестве последовательных ступеней в развитии мышления. История языка под многообразием форм словаря и грамматики обнаруживает этот единый стадиальный процесс развития мысли, единство которого обусловлено материальным единством общественно-исторического процесса. Нарастающее обогащение опыта в результате общественной практической деятельности необходимо и закономерно вело повсюду к формированию единообразных категорий мышления, как прогрессивных ступеней в процессе позйания объективных связей и отношений природы и общества.
Анализ диалектики общего и единичного, лежащей в основе как языка так и мышления, позволяет, таким образом, вскрыта сложные взаимоотношения языка-мышления и действительности. Вместе с тем остается вторая сторона задачи, — вопрос о внутренних взаимоотношениях языка и мышления. Если лингвистическое исследование лишь с громадным трудом обнаруживает лежащее в основе всех языков единое в своей
[14]
исторической изменчивости, идеологическое содержание, то это объясняется тем, что конкретное мыслительное содержание отдельных языков непосредственно не совпадает с общими категориями мышления. Грамматическая категория рода или заочного прошедшего времени, встречающаяся в ряде языков, не может без насилия над живыми фактами рассматриваться как необходимое и общеобязательное проявление человеческого сознания, при всем этом, однако, сравнительная распространенность таких категорий в языках мира опровергает фантастические предположения о наличии особых типов мышления, ограниченных этническими и национальными рамками. Возможность противопоставлять в известных границах язык мышлению обусловлена сложным и противоречивым взаимоотношением формы и содержания в языке. Звук и значение, форма и содержание в языке всегда необходимо связаны, но они развиваются далеко не равномерно, при этом содержание является активным и подвижным элементом, изменения которого определяют изменения формы. Приспособление формы к содержанию в языке никогда не является полным и непосредственным, формы языка в ходе развития нередко отстают и окаменевают, что ведет к сложным процессам переосмысления старых форм. Так как такое переосмысление предполагает своеобразное соединение п одной форме элементов старого и ногзого содержания, органическое переплетение и взаимопроникновение их, то оно естественно ведет к образованию специфических категорий, непосредственно не соответствующих ни старому, ни новому укладу мышления, существенно отличающихся от основных категорий мышления и лишь в конечном счете допускающих сведение к последним.» В результате в языке между звуком и значением располагается ряд промежуточных сфер, обладающих относительной, действительной в узких границах самостоятельностью, что является основой выделения в рамках языкознания ряда специальных дисциплин: учения о звуках речи (фонетики) — с одной стороны, и учений о словаре и грамматических формах (лексикологии и грамматики) — с другой, а в пределах последних — выделения семасиологии и синтаксиса как учения о смысловом содержании лексических и грамматических элементов.[15]
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЯЗЫКА
Правильное понимание диалектической связи языка и мышления и их взаимоотношений с историей общества является необходимой предпосылкой для решения основного генетического вопроса в языкознании, — проблемы происхождения, языка. Язык не является самостоятельным и независимым организмом, в себе самом содержащим причины своего развития. Язык возникает в обществе, и его развитие обусловлено развитием материальных общественных отношений. Являясь специфическим общественным явлением, язык отсутствует у животных и появляется лишь вместе с возникновением общества. "Начинавшееся, вместе с развитием руки и труда, господство над природой расширяло с каждым новым шагом кругозор человека. В предметах природы он постоянно открывал новые, до того не известные свойства. С другой стороны, развитие труда по необходимости способствовало более тесному сплочению членов общества, так как благодаря ему стали более часты случаи взаимной поддержки, совместной деятельности, и стала ясней польза этой совместной деятельности для каждого отдельного члена. Коротко говоря, формировавшиеся люди пришли к тому, что у них явилась потребность что-то сказать друг другу. Потребность создала себе орган: неразвитая гортань обезьяны преобразовывалась медленно, но неуклонно, постепенным усилением модуляций, и органы рта постепенно научились произносить один членораздельный звук за другим" (Энгельс).[9]
Происхождение языка в обществе, таким образом, вовсе не означает, что язык появился в результате сознательного изобретения и "общественного договора", как это представляли себе революционные французские мыслители XVIII века. Язык изначально связан с мышлением, но это не исключает того, что язык вместе с мышлением возник стихийно; независимо от воли людей, порожденный общественной необходимостью, и что потребовалось крайне длительное развитие, прежде чем язык и мышление стали объектом сознательной мысли —
[16]
сначала мифологической и многим позднее научной. Неудовлетворительность теории "общественного договора" сказывается еще в том, что она исходит из понимания языка как системы произвольных знаков и, следовательно, бессильна вскрыть тесную связь языка и мышления и их сложное отношение к объективной реальности. Но не менее шатки и многие другие теории, в которых делается попытка, дать ответ на вопрос о происхождении связи языка и мысли, слова и значения. Ономатопоэтическая теория или теория звукоподражания, отыскивающая конечное основание языка в биологической способности первобытного человека воспроизводить звуки природы, и теория "животных криков" или междометий, видящая в первобытном слове рефлекторный крик, исторгнутый как инстинктивная реакция на внешнее раздражение и постепенно ассоциировавшийся с явлением, вызвавшим рефлекс, имеют тот общий недостаток, что они построены без учета того "скачка", который отделяет биологические закономерности от социальных, явления животного мира от явлении человеческого общества. От этого порока несвободна и так называемая "синергастическая теория" Л. Нуарэ, рассматривающая язык, как продукт ассоциации инстинктивных криков, ритмически сопровождавших первобытные примитивные трудовые процессы вроде копания, плетения и т. д., и самих этих процессов. Все такого рода теории оставляют без ответа законный и неустранимый вопрос, почему животный мир, в котором встречается инстинктивное звукоподражание, рефлекторные крики и элементарнейшие трудовые процессы, не знает языка. Помимо того, сторонники аналогичных взглядов часто не замечают, что звукоподражание и т. п. явления в качестве предпосылки языка необходимо предполагают умение человека выделять в предмете некий признак и делать такой единственный признак представителем совокупности всех признаков и свойств предмета. Всякий, следовательно, кто берется за решение вопроса о происхождении языка, неминуемо должен одновременно рассмотреть и вопрос о происхождении этой интеллектуальной способности "представливания" или "репрезентации", которая является лишь парафразом свойстве иной языку и мышлению диалектики общего и единичного.[17]
Именно эта важнейшая сторона вопроса получила глубокое освещение в работах основоположников марксизма. Отмечая, что люди начинают свою историю С удовлетворения своих материальных потребностей путем овладения известными предметами внешнего мира, с производства,» Маркс продолжает: "Благодаря повторению этого процесса способность этих предметов ,удовлетворят4 потребности" людей запечатлевается в их мозгу, ,люди и звери научаются и "теоретически" отличать внешние предметы, служащие удовлетворению их потребностей, от всех других предметов. На известном уровне дальнейшего развития, после того, как умножились и дальше развивались потребности людей и виды деятельности, которыми они удовлетворяются, люди дают отдельные названия целым классам этих предметов, которые они уже отличали на опыте от остального внешнего мира. Это необходимо наступает, так как в процессе производства, т. е. в процессе присвоения этих предметов, люди постоянно находятся в трудовоп связи (werktatiger Umgang) друг с другом и с этими предметами и вскоре начинают также борьбу е другими лицами из-за этих предметов. Но это словесное наименование лишь выражает в виде представления то, что повторяющаяся деятельность превратила в опыт, а именно, что людям, уже живущим в определенной общественной связи (а такое предположение вытекает необходимо из наличия речи), определенные внешние предметы служат для удовлетворения их потребностей. Люди дают этим предметам" особое (родовое) название лишь потому, что им уже известна способность этих предметов служить удовлетворению их потребностей, и что они стараются при помощи более или менее часто повторяющейся деятельности овладеть ими и сохранить их в своем владении" ("Заметки на книгу Адольфа Вагнера").[10] "Общее" в языке и мышлении, являющееся отражением объективных связей реальности, возникает, таким образом, в результате возникновения общественных связей и взаимной зависимости индивидов в обществе. Факты и выводы нового учения о языке, разработанного ак. Н. Я. Марром, целиком подтверждают эти мысли. Возпикносению звуко-
[18]
вого языка предшествовал, согласно воззрениям Н. Я. Марра, длительный период кинетической или ручной речи, основным элементом которой, был жест. Слова в начальный период существования звуковог» языка отличались крайней диффузностью значения, они выражали различные предметы не абсолютно, а в связи с общественным коллективом, во владении которого Эти предметы находились реально или идеально, Осознание природы и осознание общества на этой фазе развития сливаются еще воедино. Предметы окружающей действительности отражались в сознании лишь в "той мере, в какой осознавалось их отношение к общественной ячейке, к тому или иному коллективу, и с другой стороны, сами общественные связи и общественный интерес, способствовавшие сплочению коллектива и формированию его, становились объектом сознания лишь потому, что конкретные предметы внешнего мира вовлекались в круг общественной производственной деятельности. Таким образом, особенности этой стадии мышления, которую Марр называет "тотемистической", чрезвычайно наглядно свидетельствуют, что "лишь только прекращается первое животное состояние, собственность [человека] над природой всегда уже опосредована его существованием как члена общины, семьи, рода и т.д., его отношением к другим людям, которое обусловливает его отношение к природе". [11]ДИАЛЕКТИКА ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА
Утверждая историзм в языкознании, настоятельно подчеркивая, что "...материя и форма родного языка" только тогда могут быть поняты, когда прослеживают его возникновение и постепенное развитие..." (Энгельс, "Анти-Дюринг"),[12] марксизм вместе с тем открывает путь для более глубокого и содержательного понимания истории языка, чем то, которое отличает эволюционистические построения сравнительно-исторического языкознания. Будучи не в силах раскрыть социальное про-
[19]
исхождение языковых фактов и своеобразное отражение диалектики формы и содержания в языке, сравнительное языкознание наталкивалось на непреодолимые трудности при попытках осветить сложный ход развития языка. История языка с самого начала представаляется исследователю как непрестанный процесс обновления и изменения фактов языка, как непрерывное творчество и новообразование, но вместе с тем исследователь обнаруживает в ней традиционную косность и устойчивость материала, который, раз возникнув, может накопляться и в виде готовой системы механически переходить от поколения к поколению, из одной общественной среды в другую. Это противоречие становления и.ставшего, генезиса и употребления в языке, сформулированное еще В. Гумбольдтом в виде антиномии деятельности (energeia) и произведения (ergon), не находит должного разрешения в буржуазном языкознании. Выход видели здесь в искусственном разграничении противоположностей. Так для языкознания конца XIX и начала XX века характерным является стремление отнести все активное и творческое в языке за счет деятельности отдельно взятого индивида, а распространение и употребление готовых форм рассматривать как имеющее место в сфере социального общения. Такая точка зрения лежит в основе ходячего деления истории языка на исдюрию "внешнюю" и "внутреннюю", которым отводится роль независимых и самостоятельных лингвистических дисциплин с особыми методами исследования и изложения языкового материала. К области "внешней истории" относят изучение экономических, политических и, в особенности, культурных условий жизни языка, — завоевания, миграции, колонизацию, возникновение и распад политических центров и связанных с ними территорий, влияние церкви, администрации, школы и т. д., словом все то, что приводит к территориальной передвижке сформировавшихся языковых элементов, к заимствованию готовых слов к ^форм, к усвоению чужих навыков произношения и т. д. Исследование в таких случаях обычно бывает ограничено простым описанием и перечислением единичных фактов, связанных с определенным исторические событием. От таких описаний резко отличается то, что называют "внутренней историей" или "исторической
[20]
грамматикой" языка. Здесь внимание исследователя сосредоточено на прослеживании так называемых "спонтанных" изменений структуры языка, .являющихся "спонтанными", поскольку их становление предполагает сдвиги в психофизическом механизме отдельных индивидов. Общим недостатком такого метода исследования "внешних" и "внутренних" изменений языка является игнорирование идеологической стороны языкового развития и группировка фактов по формалуным признакам, поскольку переосмысление готовых форм не принимается во внимание, а из общественных предпосылок трансформации языка учитываются 'лишь те, которые содействуют движению и распространению материальных элементов речи, но никак не те, что вызывают к жизни новью явления как в материальном составе, так и в смысловой сущности языка. Другой крупный недостаток этих воззрений заключается в специфическом понимании истории как совокупности единичных, случайных, и изолированных процессов. Несмотря на то, что исследование в области "внутренней истории" стремится раскрыть историю языка, как систему сопряженных фактов, оно на деле лишь регистрирует отдельные, друг с другом не связанные отклонения и сдвиги в системе языка. Тем самым понятие системы в языке сводится к случайному одновременному сосуществованию ряда явлений, в каждый данный момент находящихся в состоянии неустойчивого равновесия. Сколь тесно механическое противопоставление генезиса и употребления, становления и ставшего увязано с фактическим отрицанием закономерности в языковом развитии, можно видеть на примере Ф. де-Соссюра, диахрония и синхрония которого являются лишь парафразом гумбольдтианской антиномии деятельности (energeia) и произведения (ergon). Изгоняя понятие системы из истории ("диахронической лингвистики"), де-Соссюр делает систему понятием "синхронической лингвистики", подчеркивая при этом, что система предполагает простую констатацию некоторого состояния, внутренний порядок которого никак не детерминирован и может в любое мгновение оказаться нарушенным.
Отвергая возможность спонтанных изменений в языке, марксистское языкознание устраняет формально-логическое разграничение "внутренней" и внеш-
[21]
ней" истории, с одной стороны, "синхронии" и "диахронии", — с другой. Учет диалектики формы и содержания в языке необходимо ведет к выводу, что нет абсолютной грани между генезисом языковых единиц и их употреблением, между возникновением и территориальным распространением. В действительности различие это оказывается весьма ограниченным, в силу того, что новое в смысловом содержании языка далеко не всегда сопровождается обновлением формы и наоборот. Нет оснований и генетически разрывать эти моменты, отнеся истоки одной противоположности к обществу, а другой — к индивиду, раз доказана общественная обусловленность языка в целом. С точки зрения происхождения все исторические процессы, совершающиеся в области языка, можно разделить на процессы „внутреннего" и „внешнего" порядка лишь в.той мере, в какой одни процессы непосредственно вызваны потребностями роста сознания и лишь через посредство идеологии могут быть сведены к иным общественным предпосылкам развития языка, а другие — увязываются с идеологическим развитием лишь вторично, непосредственно будучи определены историческими обстоятельствами такого рода как, например, соприкосновение, и смешение в путях экономического и политического сближения ранее разобщенных масс населения. Языковые процессы первого рода в сумме отражают единые пути развития человеческого сознания, как оно формируется в едином ходе развития общественной практической деятельности, — процессы второго рода отражают многообразные и сложные судьбы конкретной истории данного племени и народа, малейшие извилины которой сказываются в росте языка. Такое разграничение „внутренных" и „внешних" процессов резко отличается от ходячих представлений на этот счет тем, что оно предполагает каждый раз обстоятельное исследование всего комплекса общественных причин породивших данное лингвистическое явление, что заранее исключает чисто формальную классификацию и группировку фактов.
Двоякий характер социальной обусловленности языка усложняет, таким образом, лингвистическое исследование, что усугубляется еще тем, что язык представляет собой сложно-организованное целое, систему
[22]
систем, отдельные элементы которой в известных границах самостоятельны и лишь опосредствованно входят в целое. Общие закономерности языкотворческого процесса могут поэтому быть раскрыты лишь при условии предварительного изучения закономерностей развития таких подчиненных систем как словарь, грамматика и звуковая система.
[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч. т. IV, стр. 16.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч. т. IV, стр. 20—21.
[3] Н. Я. Марр, Избранные работы, т. III, стр. 56.
[4] Архив Маркса и Энгельса, т. IV, 1935, стр. 99.
[5] В. И. Ленин, Философские тетради, 1934, стр. 283.
[6] Там же, стр. 281.
[7] Там же, стр. 199.
[8] Там же, стр. 336.
[9] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч. т. XIV, стр. 454—455.
[10] Архив Маркса и Энгельса, т. V, стр. 388.
[11] К. Маркс, Теории прибавочной стоимости, т. 111, 1932, стр. 288.
[12] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч. т. XIV. стр. 327.
Retour au sommaire
- Centre de recherches en histoire et épistémologie comparée de la linguistique d'Europe centrale et orientale (CRECLECO) / Université de Lausanne // Научно-исследовательский центр по истории и сравнительной эпистемологии языкознания центральной и восточной Европы